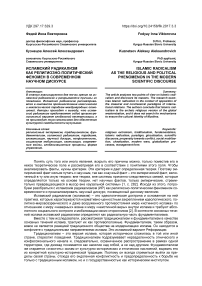Исламский радикализм как религиозно-политический феномен в современном научном дискурсе
Автор: Федяй Инна Викторовна, Кузнецов Алексей Александрович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Статья в выпуске: 3, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются две точки зрения на исламский радикализм и раскрываются причины их появления. Исламский радикализм рассматривается в контексте противостояния классической и неклассической парадигм международных отношений. Авторы приходят к выводу, что исламский радикализм представляет собой архаико-религиозный вариант глобальной вестернизации, а не производит поиск механизмов для обеспечения культурной самобытности мусульман.
Религиозный экстремизм, традиционализм, фундаментализм, исламский радикализм, парадигма, глокализация, научный дискурс, конфликтность, социальная мобилизация, хаотизация, современные войны, глобализационные процессы, форма управления
Короткий адрес: https://sciup.org/14941212
IDR: 14941212 | УДК: 297.17:329.3 | DOI: 10.24158/fik.2017.3.3
Текст научной статьи Исламский радикализм как религиозно-политический феномен в современном научном дискурсе
НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ
Понять суть того или иного явления, вскрыть его причины можно, только поместив его в некое теоретическое поле и рассматривая его в соответствии с понятиями этого поля. Чтобы анализировать факты, нужны критерии. Эти критерии и дает определенная теория. Поэтому эмпирический факт нельзя путать с научным, так как «научный факт – это эмпирический факт, включенный в ту или иную теорию: вне теории, вне системы причинно-следственных связей, которые определяются только на основе теории, нет научных фактов, только эмпирические, стремительно превращающиеся в мусор вне каузальной системы» [1, с. 282]. Исходя из этого, попробуем разобраться с исламским радикализмом (ИР) как религиозно-политическим феноменом современности и проанализировать научный дискурс, посвященный данному явлению.
Исламский радикализм (исламизм) – это идеологическая доктрина и основанная на ней практика, которые характеризуются нормативно-ценностным закреплением идеологического, политико-мировоззренческого и даже вооруженного противостояния мира «истинного ислама» по отношению к миру «неверных» вовне и миру «неистинной веры» внутри ислама и требуют абсолютного социального контроля и мобилизации своих сторонников [2]. В контексте основных течений ислама исламский радикализм определяют как радикальную часть фундаментализма.
Вместе с тем исследователи, рассматривая традиционализм и фундаментализм в качестве основных течений ислама, трактуют их как противоположные. Фундаментализм, таким образом, вовсе не является реакцией традиционного общества на модернизацию ислама. Он находится в конфликте с традиционными направлениями ислама. Это исламский вариант Реформации.
Традиционализм – это версия ислама, которая исторически сложилась в той или иной стране, стереотип поведения. Традиционализм подразумевает неразделенность этнического и конфессионального начала и, следовательно, ограниченное распространение в рамках одной территории, где джихад понимается как насилие над собой, а не над другими. Фундаментализм же старается «очистить» ислам от культурно-исторических и этнических наслоений, вырвать его из конкретной культурно-исторической традиции. Поэтому он всегда стремиться выйти за пределы своей страны, отсюда его эндогенная конфликтность и предопределенность к борьбе не только с традиционным исламом, но и с государственностью как историческим институтом.
Таким образом, если традиционализм использует традиционную форму для сохранения традиционных отношений, то фундаментализм эксплуатирует традиционную форму, стремясь к радикальной перестройке всех традиционных отношений. Это модернистское содержание с ан-титрадиционной направленностью, но в архаичной форме. А значит, он органично встраивается в мондиалистский неолиберальный проект, а вовсе не предлагает ему некую цивилизационную альтернативу. Напротив, его альтернативное мироустройство вписывается в стратегию транснационального класса, в глобализационные процессы. Альтернативным же оно является именно для традиционного культурно-исторического пространства с его институтами.
Если рассмотреть разницу между данными течениями ислама в ракурсе всемирной истории, то совершенно очевидно, что традиционный ислам, как и вообще все традиционные религии, существует в контексте той или иной государственности. Он развивается в рамках определенного культурно-исторического пространства и является его субъектом, то есть имеет собственные содержание и цели. А значит, он эндогенно предопределен к союзу с государством (так называемый официальный ислам), исторически встроен в традиционные институты и поэтому внутренне, структурно противостоит глобализационным процессам. В то же время фундаментализм структурно (сетевая структура) существует именно в глобализационном пространстве, эндогенно вписывается в глобальную сетевую структуру, а потому не может внутренне, структурно иметь собственного содержания и целей, разве только во внешней религиозной видимости.
Таким образом, причина различия двух версий ислама заключается в самом характере появления. Традиционный ислам возникает в цивилизационном, культурно-историческом пространстве как один из институтов этого пространства, как его субъект. Поэтому он структурно предрасположен к существованию именно в этом пространстве и к союзу с другими историческими институтами этого пространства. И именно он, а не фундаментализм диссонирует с процессами глобализации.
Фундаментализм возникает в контексте именно глобализационных процессов, поэтому органично вписывается в современное пространство, является частью процессов глокализации, их инструментом. Например, радикальную его часть - экстремизм и терроризм, А.И. Фурсов определяет как одну из новых форм управления глобализационными процессами. Именно поэтому фундаментализм эндогенно предрасположен к конфликтности со всеми институтами традиционного культурно-исторического пространства. Посредством него разрушают историческую мусульманскую государственность - не модернизируют, а именно разрушают, создавая локальные зоны хаоса.
Таким образом, фундаментализм является структурным элементом универсального глобального проекта и структурно предрасположен к конфликту со всеми традиционными институтами, но не с глобалистскими структурами . Отсюда ясно, что исламский радикализм как радикальная часть фундаментализма вовсе не является борцом с глобализацией, реакцией на ее негативные для мусульманской культуры последствия. Напротив, он - один из ее инструментов. ИР можно определить как форму социальной мобилизации мусульман в контексте глокализации, в ракурсе воплощения западного неолиберального проекта, а вовсе не выступления против него .
Перефразируя О.Н. Четверикову, можно сказать, что ставка на ИР - это стратегическая линия транснационального класса, отвечающая его коренным интересам, поскольку именно он становится орудием построения «цивилизации кочевников» [3]. Можно даже выделить социально-экономические, цивилизационные и геополитические выгоды этого феномена. Социально-экономическая выгода заключается в том, что фундаменталистский радикализм придает проблеме бедности не столько социальный, сколько религиозный характер. Цивилизационная выгода состоит в том, что в контексте ИР исчезает поиск цивилизационной альтернативы Западу. Геополитическая выгода выражается в создании постоянных очагов напряженности в нужных местах.
Тем не менее общим местом в трактовке ИР стало определение его как ответа на вестернизацию и унификацию глобализационных процессов, поиска механизмов для обеспечения культурной самобытности мусульман [4] или как попытки придать мусульманскому социуму импульс развития, сделать его конкурентоспособным Западу и пр. Но в таком случае отсюда неизбежно должен следовать вывод, что Ир (и экстремизм) имеет собственные цели, созидательное содержание и является самостоятельным геополитическим субъектом. Более того, тогда ИР неизбежно предстает как цивилизационная альтернатива Западу, ведущая к восстановлению мусульманской государственности и культуры. Реалии «арабской весны» показывают прямо противоположное. Большинство авторов (Т. Вольтон, А.А. Игнатенко, О.Н. Четверикова и др.) также утверждают обратное, а именно:
-
1) ИР не имеет собственных целей и созидательного содержания;
-
2) является не субъектом, а объектом мировой политики;
-
3) ведет к разрушению исторической мусульманской государственности и культуры;
-
4) не ведет поиск цивилизационной альтернативы западному обществу потребления, а вписывается в него в качестве «локального ислама» диаспор;
-
5) структурно идентичен глобализации, представляя собой один из вариантов сетевой структуры;
-
6) является вырождением и деградацией традиционного ислама.
Данные выводы соответствуют гипотезе о том, что ИР – это антитрадиционализм, некий религиозный постмодерн в архаичной форме. То есть это лишь один из вариантов глобальной вестернизации и хаотизации, только в архаично-религиозной мусульманской окраске , им вовсе не ведется поиск механизмов для обеспечения культурной самобытности мусульман. Дело в том, что ислам, будучи религией всеохватывающей и нерасчлененной, не секуляризируется, а потому используется транснациональным кланом в форме фундаменталистской архаики. Но данная архаичная религиозность – лишь видимость, окраска, скрывающая модернистское содержание и структурную встроенность в глобальный универсальный проект.
Отчего же происходит это несоответствие выводов начальным установкам? Оттого, что писать об ИР вообще, не определив концептуальное поле системы международных отношений, мировой политики, глобальных и региональных процессов, нельзя. Данное несоответствие изначальных установок и последующих выводов может означать лишь одно: ИР помещают не в то теоретическое поле и, следовательно, используют не те критерии для его анализа, этим и объясняется его оправдывающая оценка, не соответствующая действительности.
Понятийным полем, встроенность в которое предопределяет подобные трактовки исламской радикализации, выступает теория колонизации и деколонизации. В этом каузальном поле процесс радикализации ислама напрямую связывают с процессами колонизации и последующей деколонизации как причинами приниженной роли мусульманских государств в мире. Исследуя ИР в этом контексте, его и трактуют как попытку обеспечить культурную самобытность мусульман, придать мусульманскому социуму импульс развития и т. п. Рассматривать же ИР необходимо в ракурсе основных тенденций международных отношений и мировой политики, тогда как процессы колонизации и деколонизации таковыми уже не являются. Главная современная тенденция, которой определяются все явления международных отношений и мировой политики, – это глокализа-ция. Поэтому в современной теории международных отношений можно констатировать наличие двух противоположных парадигм: классической и формирующейся новой, неклассической, монди-алистской. Каждая из них является самостоятельной системой, со своим типом связей, своими политическими, правовыми и идеологическими нормами.
Классическая система строится на идее абсолютной суверенности государства. Международное публичное право с его центральным постулатом – принципом невмешательства и понятием «национальные интересы» – основывается именно на концепции абсолютной суверенности государства. Данная концепция через 400 лет после Вестфальского мира была положена в основу Устава ООН и заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки. Дополненный принципом нераспространения ядерного оружия и принятый большинством стран, данный миропорядок обеспечивал в течение длительного времени равновесие мировых сил не только в Европе, но и в целом на планете.
Вторая парадигма, представленная западной школой глобалистики, основывается на виль-сонианской идее мира как концепции, которая выше национальных интересов, суверенитета и независимости, т. е. тех аспектов жизни нации, за которые во все века воевали. В данной парадигме оформляется сетевая структуризация международных отношений с размыванием границ между внутренней и внешней политикой, с расширением управления международными процессами до негосударственных субъектов и эрозией государственной монополии в определении характера международных отношений.
Именно в контексте этой основной современной тенденции появляются такие реалии, как «арабская весна», демонтаж и разрушение традиционных институтов, перестройка всей цивилизационной структуры по сетевому принципу. Для этого используются миграционная политика, усиление роли диаспор, где, с одной стороны, религия смещается в сферу индивидуальной идентичности, неспособной к коллективным установкам и культурным проектам, – так называемая неолиберальная политизация ислама (рыночный ислам), с другой – развиваются исламский радикализм и экстремизм.
В данном противостоянии парадигм как главной современной тенденции международных отношений и мировой политики любые конфликты и военные действия, помимо внешних тактических причин и целей, имеют внутреннюю стратегическую нагрузку, являются частью указанного глобального противостояния. Это определяет новое лицо современных войн [5]. Войны становятся не только все более опасными, сложными и деструктивными, но и все более трудно определимыми, т. е. стирается сама граница между войной и миром.
Главной целью при этом становится не тотальное поражение противника, а лишение его субъектности и превращение в инструмент для достижения целей победителя. Если в этом ракурсе рассмотреть ислам, то станет очевидно, что задачу лишения ислама субъектности выполняет фундаментализм. Так как что такое фундаментализм? Это отрыв ислама от конкретного культурно-исторического пространства или наслоения, так называемый «чистый ислам» [6]. В результате ислам лишается реальности и, абстрагируемый от нее, становится инструментом реализации целей сетевых элит, а мусульманское культурно-историческое пространство с его институтами лишается смысла и распадается.
Данный механизм лишения религии субъектности не нов и был отработан еще в процессе христианской Реформации, в виде отделения церкви мистической, невидимой от церкви исторической, видимой. В результате мистическая церковь лишалась реальности и исчезала, дробилась, каждый сам себе становился церковью. Видимая историческая церковь лишалась религиозного смысла, превращаясь в рукотворный, бюрократический институт, который можно постоянно реформировать и как угодно изменять [7]. Те же нереальные смыслы и бессмысленная реальность. Только в случае ислама, с его неотделимостью от других сфер культуры и отсутствием института церкви, основной мишенью вместо церкви выступает мусульманская государственность. Фундаментализм дуалистически разводит не церкви, которых нет в исламе, а религию и культурно-историческое пространство со всеми его институтами. Это приводит не только к лишению субъектности ислама, но и к еще большему ослаблению и последующему распаду мусульманских государств.
Таким образом, исламский радикализм лишает ислам субъектности и, облекая его в форму экстремизма, превращает в один из новых способов управления глобализационными процессами . В этом ракурсе ИР можно определить как олицетворение нового типа войн, как одно из орудий глобального транснационального проекта. Но чтобы увидеть это, необходимо поместить ИР в теоретическое поле борьбы двух парадигм международных отношений и мировой политики и исследовать его в контексте этого поля.
Ссылки:
-
1. Фурсов А.И. Серые волки и коричневые рейхи // De Secreto. О секрете : сб. науч. тр. / сост. А.И. Фурсов. М., 2016. С. 277–320.
-
2. Добаев И.П. Исламский радикализм: социально-философский анализ / отв. ред. А.В. Малашенко. Ростов н/Д., 2002. 120 с.
-
3. Четверикова О.Н. Теневая история Евросоюза: планы, механизмы, результаты // De Aenigmate. О тайне : сб. науч. тр. / сост. А.И. Фурсов. М., 2015. С. 355–460.
-
4. Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001. 180 с. ; Петрухина А.А. Исламский радикализм как фактор дестабилизации мировой политической ситуации : автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012.
-
5. Ларина Е.С. Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит. М., 2016. 320 с.
-
6. Calvert J. Sayyid Qutb and the origins of radical Islamism. N. Y., 2010. 377 p. ; Mura A. The symbolic scenarios of Islamism:
-
7. Федяй И.В. Проблема власти в истории русской философии (конец XIX – начало ХХ в.) : автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 2007.
a study in Islamic political thought. L., 2015. 258 p.
Список литературы Исламский радикализм как религиозно-политический феномен в современном научном дискурсе
- Фурсов А.И. Серые волки и коричневые рейхи//De Secreto. О секрете: сб. науч. тр./сост. А.И. Фурсов. М., 2016. С. 277-320.
- Добаев И.П. Исламский радикализм: социально-философский анализ/отв. ред. А.В. Малашенко. Ростов н/Д., 2002. 120 с.
- Четверикова О.Н. Теневая история Евросоюза: планы, механизмы, результаты//De Aenigmate. О тайне: сб. науч. тр./сост. А.И. Фурсов. М., 2015. С. 355-460.
- Малашенко А.В. Исламские ориентиры Северного Кавказа. М., 2001. 180 с.
- Петрухина А.А. Исламский радикализм как фактор дестабилизации мировой политической ситуации: автореф. дис. … канд. полит. наук. М., 2012.
- Ларина Е.С. Умножающие скорбь. Как выжить в эпоху войны элит. М., 2016. 320 с.
- Calvert J. Sayyid Qutb and the origins of radical Islamism. N. Y., 2010. 377 p.
- Mura A. The symbolic scenarios of Islamism: a study in Islamic political thought. L., 2015. 258 p.
- Федяй И.В. Проблема власти в истории русской философии (конец XIX -начало ХХ в.): автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 2007.