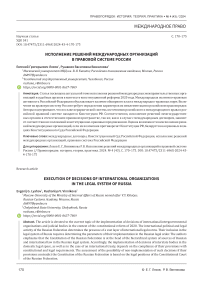Исполнение решений международных организаций в правовой системе России
Автор: Ляхов Е.Г., Винникова Р.В.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Международное право
Статья в выпуске: 4 (43), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной теме исполнения решений международных межправительственных организаций и судебных органов в контексте конституционной реформы 2020 года. Международная политико-правовая активность Российской Федерации обуславливает наличие обширного пласта международно-правовых норм. Включение их правовую систему России требует определения параметров их имплементации в российском правопорядке. Авторы подчеркивают, что во главе иерархической системы источников российского и международного права в российской правовой системе находится Конституция РФ. Соответственно, исполнение решений межгосударственных органов в отечественном правовом пространстве, так же, как и в случае с международным договором, зависит от соответствия их положений конституционно-правовым предписаниям. Оценка возможности неисполнения решений международных организаций, если их положения противоречат Конституции РФ, базируется на правовых позициях Конституционного Суда Российской Федерации.
Международные договоры, конституционный суд российской федерации, исполнение решений международных организаций, правовая система российской федерации
Короткий адрес: https://sciup.org/14132195
IDR: 14132195 | УДК: 341 | DOI: 10.47475/2311-696X-2024-43-4-170-175
Текст научной статьи Исполнение решений международных организаций в правовой системе России
Российская Федерация — один из ключевых субъектов международно-правовых отношений․ Являясь одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, Россия признает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности (ст․ 24 Устава ООН)․ Большое значение придается реализации целей устойчивого развития, сформулированными ООН․ По мнению нашего государства это может быть обеспечено лишь общими коллективными усилиями всех участников мирового политико-правового процесса․ В этих целях Россия активно развивает сотрудничество с другими государствами в рамках международных организаций, различных диалоговых структур, иных международно-правовых инструментов 1 ․
Всего Россия участвует более чем в 300 международных организациях․ Особое место в отечественной внешней политике занимают организации регионального сотрудничества, прежде всего, действующие на постсоветском пространстве (СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, в некоторой мере ШОС, имеющая более широкий, чем постсоветский, состав участников)․ На апрель 2023 г․ Россия поддерживает дипломатические отношения с 191 государством2․
Описание исследования
Согласно принципу «pacta sunt servanda» , закрепленному в Венской конвенции о праве международных договоров (ст․ 26, 27) от участников договора требуется добросовестное его выполнение, не допускается ссылка участника на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им догово-ра․ По мнению нашего государства, неукоснительное следование нормам международного права, добросовестное соблюдение взятых на себя договорных обязательств обеспечивает стабильность международного правопорядка и мирное сосуществование всех стран․ Россия участвует в более чем 20000 действующих международных договоров․
Таким образом, международная политико-правовая активность Российской Федерации обуславливает наличие обширного пласта международно-правовых норм, которые определенным образом включены в отечественную правовую систему․ При этом следует помнить, что в данном случае национальное право выступает как первичное по отношению к международному․ Это означает, что именно внутригосударственное право определяющим образом формирует (или переформатирует) базовые конструкции применяемого в национальном масштабе международного права․ Признание первичности не означает автоматического примата внутригосударственного права над международным․ Этот вопрос особо решается в каждой национальной правовой систе-ме․ Рассмотрим, как с ним обстоят дела в праве России․
Основной вопрос, который требуется разъяснить — это место, которое отводится источникам международного права в иерархической системе источников российского права․
В соответствии с ч․ 4 ст․ 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора» ․ Отсылки к соблюдению принципов и норм международного права имеются и в других статьях Конституции (например, ч․ 1 ст․ 17, ст․ 62 и 63 Конституции РФ)․
Конституционный Суд РФ в постановлении от 14․07․2015 № 21-П на примере Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и вынесенных в соответствии с ней постановлений Европейского суда по правам человека, уточняет:
«…как следует из Конституции Российской Федерации, ее статей 4 (часть 1), 15 (часть 1) и 79, закрепляющих суверенитет России, верховенство и высшую юридическую силу Конституции Российской Федерации и недопустимость имплементации в правовую систему государства международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации и тем самым нарушить конституционные предписания, ни Конвенция о защите прав человека и основных свобод как международный договор Российской Федерации, ни основанные на ней правовые позиции Европейского Суда по правам человека, содержащие оценки национального законодательства либо касающиес я необходимости изменения его положений, не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции Российской Федерации и потому подлежат реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей юридической силы именно Конституции Российской Федерации ».
По словам Президента России В․ В․ Путина, «требования международного законодательства 1 и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции» 2 .
Таким образом, Конституция РФ имеет приоритет над всеми источниками права, действующими на территории нашего государства, в том числе и содержащими международно-правовые предписания․ Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации», воспроизводя положение ч․ 4 ст․ 15 Конституции, вносит существенное дополнение в порядок взаимодействия национального права и международных договоров, устанавливая в п․ 3 ст․ 5, что «положения официально опубликованных международных договоров Российской Федерации, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно․ Для осуществления иных положений международных договоров Российской Федерации принимаются соответствующие правовые акты»․
Таким образом, согласно конституционно-правовым предписаниям положения международного договора, ставшего частью нашей правовой системы, обладают большей юридической силой, чем те, которые предусмотрены федеральными законами и иерархически подчиненными им нормативно-правовыми актами․ Верховный Суд РФ конкретизировал это предписание, указав, что приоритетом в применении в отношении федеральных законов обладают только те международные договоры, «…решения о согласии на обязательность которых были приняты в форме федерального закона, в то время как международный договор, решение о согласии на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, имеет приоритет в применении лишь в отношении подзаконных нормативных актов, изданных органом государственной власти, заключившим данный договор» 3 ․
В Обзоре практики применения судами общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров РФ при рассмотрении уголовных дел (декабрь 2021 г․) ВС РФ на примере решения по делу № 5-АПУ18-23 показал порядок применения международного договора, устанавливающего иные правила, чем предусмотренные уголовным процессуальным законодательством России:
Гражданин Белоруссии и его адвокат обжаловали решение о выдаче для привлечения к ответственности по ст. 422 УК РБ (об уклонении от превентивного надзора) в связи с тем, что п. 1 ч. 3 ст. 462 УПК РФ разрешает выдать лицо, если уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок выше одного года, в то время как ч. 1 ст. 314.1 УК РФ, по которой был осужден гражданин, содержит менее строгое наказание (до года лишения свободы).
Коллегия по уголовным делам ВС РФ оставила их жалобы без удовлетворения. Она напомнила, что выдача лиц для уголовного преследования между Россией и Белоруссией происходит на основании Конвенции о правовой помощи от 22 января 1993 года. Согласно п. 2 ст. 56 выдают для привлечения к ответственности за такие действия, за которые наказывают лишением свободы на срок не менее одного года. Поскольку закон и международный договор содержат разные положения, руководствоваться стоит договором , подчеркнула коллегия, оставляя акты нижестоящих инстанций без изменения 4 .
Имплементационным ресурсом, помимо международных договоров, обладает еще один вид источников международного права — решения международных организаций. Большинство этих международно-правовых документов не имеют обязательной силы (относятся к источникам soft law ) и, соответственно, не могут рассматриваться как подлежащие имплементации․
Однако в международном праве имеются решения международных организаций, обязательные для исполнения либо для всех участников данных организаций, либо для субъектов, которым они адресованы․ К ним относятся, например, резолюции Совета Безопасности ООН , принятые в соответствии со ст․ ст․ 24, 25 Устава ООН, решения международных судебных учреждений , вынесенных по результатам рассмотрения конкретного спора․ Такие источники могут действовать в национальном праве․
Россия признает необходимость международного судопроизводства как правового механизма разрешения международных споров․ Согласно ч․ 3 ст․ 46 Конституции РФ каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты․
Впервые международный суд — Постоянная палата международного правосудия (ППМП), был создан Лигой Наций в 1920 г․ Государства — члены Лиги Наций могли «…заранее объявить о признании обязательной юрисдикции Палаты в отношении любого спора, который может возникнуть в будущем с другим государством, сделавшим такое заявление»[1, с․ 6–7]․ За время своей деятельности (1922–1940 гг․) Палата вынесла 29 решений по спорам между государствами и 27 консультативных заключений, которые практически в полном объеме были выполнены1․
Международный Суд ООН (МС ООН), созданный в 1946 г․, стал фактическим (но не юридическим!) правопреемником ППМП․ Символически это было подчеркнуто, в том числе тем, что первым председателем МС ООН стал Хосе Густав Герреро (Сальвадор) — последний Председатель ППМП․
Первое решение МС ООН состоялось уже в 1947 г․ Всего за более чем 75 лет работы (1947–2024) Международным Судом ООН было внесено в Общий список дел 165 межгосударственных споров и 28 консультативных заключений2․
С момента начала работы МС ООН представитель от СССР, а впоследствии и от России, вплоть до января 2024 г․ постоянно присутствовал в составе Суда․ С 1989 г․ СССР признает юрисдикцию МС ООН по международным договорам в сфере прав человека, а с 2007 г․ — по международным договорам в сфере борьбы с терроризмом 3 ․
В 50-е г․г․ ХХ в․ СССР четыре раза становился фигурантом в процессе в МС ООН․ Причем, каждый случай касался воздушных инцидентов с американскими военными самолетами (нарушение воздушного пространства СССР и союзников)․ Во всех случаях дела исключались из списка дел МС ООН как выходящие за пределы его юрисдикции․
В 2008 г․ Грузия обвинила Россию в нарушении положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965 г․) в отношении грузинского населения на территории Абхазии и Южной Осетии․ В 2010 г․ суд прекратил производство по делу также в связи с отсутствием юрисдикции․
В 2017 г․ с иском о нарушении положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999 г․) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации к России выступила Украина․ 31 января 2024 г․ МС ООН вынес решение по существу по данному иску, в котором Суд отклонил более чем 20 требований, заявленных Украиной и не признал за Украиной какую-либо компенсацию 4 ․
26 февраля 2022 г․ Украина обратилась в МС ООН с заявлением против России «Утверждения о геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него»․ По мнению России, поставленный в этом заявлении вопрос о правомерности применения силы выходит за пределы юрисдикции МС ООН5․ По информации на август 2024 г․, дело находится на стадии подготовки Россией контрмеморандума․
Четыре раза Россия становилась участником рассмотрения дел в Международном трибунале по морскому праву․ В рамках регионального межгосударственного сотрудничества Россия принимает активное участие в работе Экономического суда СНГ, Суда Евразийского экономического союза․
Помимо «классических» международных судебных учреждений наше государство участвует в международно-правовых институтах, обладающих квазису-дебными функциями․ Например, в договорных органах по правам человека системы ООН․ В настоящее время восемь из девяти комитетов — договорных органов — могут при определенных условиях рассматривать индивидуальные жалобы (сообщения) от отдельных лиц․ Комитеты уполномочены давать объективную оценку фактам, представленным в индивидуальных сообщениях, делать соответствующие выводы о нарушениях и выносить по результатам рассмотрения рекомендации» [2, с․ 208]․
Несмотря на то, что эти решения, в отличие от документов международных судов, не имеют обязательного для исполнения характера, в доктрине международного права признается их высокий правовой авторитет․ По мнению А․ С․ Автономова — члена Комитета по ликвидации расовой дискриминации с 2003 г․ по 2020 г․, реко-мендательность решений договорных органов заключается в самостоятельном выборе государством способа исполнения, но не в возможности их игнорирования» [3]․
На август 2024 г․ Россия признала компетенцию рассматривать индивидуальные сообщения четырех договорных органов․ К ним относятся:
— Комитет по правам человека (КПЧ), который может рассматривать индивидуальные сообщения о предполагаемых нарушениях прав, закрепленных Международным пактом о гражданских и политических правах в отношении государств-участников первого Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах;
— Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), который может рассматривать индивидуальные сообщения о предполагаемых нарушениях Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин государствами-участниками Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
— Комитет против пыток (КПП), который может рассматривать индивидуальные жалобы на предполагаемые нарушения прав, закрепленных Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в отношении государств-участников, сделавших необходимое заявление в соответствии со статьей 22 Конвенции;
— Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), который может рассматривать индивидуальные сообщения о предполагаемых нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации государствами-участниками, сделавшими необходимое заявление в соответствии со статьей 14 Конвенции․
С 1998 г․ по 15 марта 2022 г․ Россия являлась участником Европейского суда по правам человека․ За это время ЕСПЧ вынес около 3000 постановлений по делам с участием Российской Федерации․ По мнению Председателя Ассоциации юристов России С․ Степашина ЕСПЧ сыграл положительную роль в развитии российской правовой системы» [4]․ Ряд решений ЕСПЧ стали своеобразным триггером для совершенствования отечественного процессуального, уголовного, административного, гражданского законодательства․ Однако очевидная в последние годы политизация ЕСПЧ и распространённая в его деятельности практика двойных стандартов, игнорирование национально-государственной идентичности стран-участников ЕСПЧ стали причиной критического отношения к работе ЕСПЧ и Совета Европы, как международной организации в целом․ Причем, не только со стороны России, но и других государств Европы» [5]․
Первым конституционно-правовым ответом со стороны нашего государства на судейский субъективизм ЕСПЧ можно считать постановление КС РФ № 21-П от 14․07․2015 (далее — Постановление) в котором дана конституционно-правовая оценка возможности неисполнения решений ЕСПЧ, если их положения противоречат Конституции РФ․ Конституционный Суд сформулировал элегантную и, можно сказать, остроумную систему аргументов в обоснование своей позиции 1 ․ Основным доводом можно считать положение, что постановления ЕСПЧ в соответствии с ч․ 4 ст․ 15 Конституции РФ признаются составной частью российской правовой системы , во главе которой находится Конституция РФ (п․ 2․2․ Постановления)․
Обращает внимание юридическая техника Постановления: авторы по несколько раз возвращаются к определенным тезисам, тем самым, как представляется, подчеркивают их доктринальную значимость․
Так, в Постановлении неоднократно указывается на дополнительный, субсидиарный, по отношению к национальному , характер судебной защиты прав человека в Европейском суде по правам человека (пп․ 2․1․, 4, 6 Постановления):
Россия присоединилась к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, стремясь обеспечить дополнительными гарантиями реализацию закрепленного в статье 2 Конституции Российской Федерации фундаментального положения о правах и свободах человека как высшей ценности в демократическом правовом государстве… (п․ 4 Постановления) … Европейский Суд по правам человека как межгосударственный субсидиарный судебный орган … (п․ 6 Постановления)․
Особого внимания в связи с этим заслуживает аргумент, что Конституция РФ и Конвенция о защите прав человека и основных свобод основаны на одних и тех же базовых ценностях защиты прав и свобод человека (п․ 4 Постановления)․ Это дает правовые основания в случае коллизии отдавать предпочтения конституционным требованиям, а не решению ЕСПЧ․
Следующее важное положение, которым аргументируется примат Конституции над решениями ЕСПЧ касается общих вопросов организации международного права, его роли в регулировании общественных отношений․ Одной из основных задач международного права признается осуществление международного сотрудничества на основе соблюдения основных принципов международного права ․ Конституционный Суд в нескольких пунктах Постановления указывает на уважение (сохранение) государственного суверенитета, на суверенное равенство и уважение прав государства, на принцип невмешательства во внутренние дела государства как на обязательные условия вынесения ЕСЧП решений (пп․ 2․2․, 3, 6 Постановления)․ Таким образом, по обоснованному мнению КС РФ, ЕСПЧ, как орган межгосударственного правосудия, не вправе диктовать государствам конкретные меры реализации судебных постановлений: «взаимодействие европейского и конституционного правопорядка невозможно в условиях субординации , поскольку только диалог между различными правовыми системами является основой их надлежащего равновесия » (п․ 6 Постановления)․
В дополнение к этому КС РФ подчеркивает, что обязательность для ЕСПЧ учета особенностей национальной (конституционной) идентичности государства является фактором эффективности всей европейской системы защиты прав человека․ (п․ 6 Постановления) Действительно, любое, самое совершенное по содержанию, судебное решение рискует стать нереализабельным в национальных условиях, если при его формировании были проигнорированы специфические черты, определяющие цивилизационную и конституционную личность государства․ Учет таких черт, уважение к ним позволит снизить вероятность конфликта между национальным правом и позицией международного судебного органа․
Стоит отметить еще одну группу аргументов, связанных с субъективностью и непоследовательностью решений ЕСПЧ․ Конституционный Суд РФ неоднократно (пп․ 2․2, 3, 4 Постановления) говорит, что правовые позиции ЕСПЧ основываются на мнении (толковании, интерпретации, конкретизации) положений ЕКПЧ конкретного судебного состава․ Таким образом, несогласие государства с содержанием постановления ЕСПЧ касается «…не столько основного содержания (существа) тех или иных прав и свобод человека как таковых (сформулированных в Конвенции самым абстрактным образом), сколько их конкретизации посредством толкования постановлениями Европейского Суда по правам человека» (п․ 4 Постановления)․
Наконец, внимания заслуживает еще один аргумент, содержащийся в п․ 4 Постановления․ КС РФ считает, что нельзя поддерживать правовую позицию ЕСПЧ, если она менее полно по сравнению с Конституцией РФ «…обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина, в том числе в балансе с правами и свободами иных лиц (статья 17, часть 3, Конституции Российской Федерации)»․ Защита прав человека в Совете Европы не совпадает с нашим национально-правовым комплексом обеспечения и защиты прав человека․ В обеих системах имеются общие базовые ценности (это отмечено и в Постановлении КС РФ), но также наблюдаются и принципиальные аксиологические различия, связанные, прежде всего, с многонациональным и многоконфессиональным характером нашего государства, нашим историческим наследием․ Поэтому неудивительно, что некоторые права человека в России могут обеспечиваться и защищаться более полно, чем это предусмотрено в Совете Европы․ Например, наше государство признает приоритет прав женщин и детей, признавая социальную уязвимость и значимость данных категорий (см․, например, ч․ 4 ст․ 67․1 Конституции РФ)․ По мнению Совета Европы — это проявление позитивной дискри-минации․ Означает ли это, что Россия должна отказаться от подобного конституционно-правового подхода и следовать ценностным стандартам Европы? Думается, что ответ на этот вопрос должен быть отрицательным․
Анализируемое Постановление стало правовым основанием для рассмотрения Конституционным судом РФ вопросов об исполнении решений ЕСПЧ по делам «Анчугов и Гладков против России» (2016) и «ОАО «Нефтяная компания ЮКОС» против России» (2017)․
В 2020 году, после пятилетней практики применения правовых позиций о приоритете Конституции над решениями межгосударственных органов, сформулированных в Постановлении № 21-П КС РФ, это положение приобрело конституционно-правовой характер и было закреплено в новой редакции ст․ 79 Конституции РФ․
Таким образом, несмотря на то, что Россия вышла из состава Совета Европы и с 15 марта 2022 г․ не признает юрисдикцию ЕСПЧ, участие в иных международно-правовых образованиях позволяет предположить реальность вынесения каких-либо решений межгосударственных организаций в отношении РФ․ Такие решения будут имплементироваться в отечественную правовую систему только в том случае, если они не противоречат Конституции РФ․
Заключение и выводы
В Российской Федерации в соответствии с конституционными предписаниями положения международного договора находятся в иерархическом подчинении конституционно-правовым нормам; в случае коллизии федерального закона и международного договора преимущество имеет последний․
Исполнение решений межгосударственных органов в отечественном правовом пространстве, так же, как и в случае с международным договором, зависит от соответствия их положений конституционно-правовым предписаниям․
Список литературы Исполнение решений международных организаций в правовой системе России
- Международный Суд: Главный судебный орган Организации Объединённых Наций: вопросы и ответы. Нью-Йорк: ООН, 2001. 80 с.
- Международная защита прав человека: учебник / отв. ред. А. Х. Абашидзе. Москва: РУДН, 2017. 466 с.
- Автономов А. С. Рассмотрение договорными органами индивидуальных сообщений в системе Организации Объединенных Наций 26 Mar 2019 // UN Web TV: Audiovisual Library of International Law. URL: https://webtv.un.org/en/asset/k1s/k1s5xm2023 (дата обращения: 23.09.2024).
- Сергей Степашин: Запущен механизм создания альтернативы ЕСПЧ // Российская газета. 2022. 5 июня.
- Theresa May criticises human rights convention after Abu Qatada affair // The Guardian. 08.07.2013; Lawless J. UK plans to rewrite human rights law; critics cry foul // Washington Post. 2022. July 22.