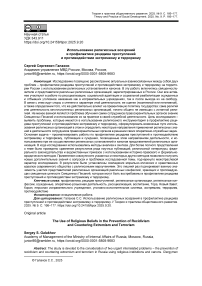Использование религиозных воззрений в профилактике рецидива преступлений и противодействии экстремизму и терроризму
Автор: Галахов С.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено рассмотрению актуальных взаимосвязанных между собой двух проблем – профилактике рецидива преступлений и противодействию экстремизму и терроризму на территории России с использованием религиозных установлений и канонов. В эту работу включились священнослужители и представители различных религиозных организаций, зарегистрированных в России. Они все активнее участвуют в работе по ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации осужденных и отбывших уголовное наказание как в исправительных учреждениях, так и после выхода их на свободу. В связи с этим идут споры о степени и характере этой деятельности, ее оценке (позитивной или негативной), а также определении того, что же действительно влияет на превентивную политику государства: сама религия или деятельность многочисленных религиозных организаций, ничего общего не имеющих с истинной религией. Не менее важной является проблема обучения самих сотрудников правоохранительных органов знанию Священных Писаний и использованию их на практике в своей служебной деятельности. Цель исследования ‒ выявить проблемы, которые имеются в использовании религиозного инструментария в профилактике рецидива преступлений и противодействии экстремизму и терроризму, сформулировать возможные пути использования религиозных организаций в этом и определить некоторые направления применения религиозных знаний в деятельности сотрудников правоохранительных органов в решении своих оперативно-служебных задач. Основная задача ‒ проанализировать работы по профилактике рецидива преступлений и противодействию экстремизму и терроризму, публикации и суждения, посвященные этим направлениям деятельности, и использованию при ее осуществлении религиозных установлений и канонов представителей религиозных организаций. В ходе исследования использовались методы анализа и синтеза. Для более полного представления о теме было проведено сравнение результатов ряда научных публикаций, религиозной литературы, федерального законодательства и ведомственных приказов с использованием историко-правового и формально-юридического методов. Применение совокупности указанных и некоторых других методов позволило получить новые дополнительные знания о вопросах и проблемах исследованной темы, подчеркнуло межотраслевой характер исследования. В результате были установлены совпадения морально-этических и нравственных идеалов современного общества с религиозными вероучениями. Это лишний раз подчеркивает важную значимость участия представителей религиозных организаций различных конфессий, хранящих и проповедующих священные ценности Священных Писаний, которые могут быть востребованы в профилактике рецидива преступлений и противодействии экстремизму и терроризму.
Профилактика, рецидив преступлений, религиозные организации, религиозные конфессии, осужденные, оперативно-розыскная деятельность, ресоциализация, воспитание, Тора, Новый Завет, Коран, персонал исправительного учреждения, уголовно-исполнительная система, экстремизм, терроризм, противодействие Финансирование: инициативная работа
Короткий адрес: https://sciup.org/149149187
IDR: 149149187 | УДК: 343.911 | DOI: 10.24158/tipor.2025.9.20
Текст научной статьи Использование религиозных воззрений в профилактике рецидива преступлений и противодействии экстремизму и терроризму
Академия управления МВД России, Москва, Россия, ,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia, ,
Введение . В современной России правовой основой, регулирующей превентивную деятельность, является Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 8 августа 2024 г. № 232-ФЗ). Упомянутый выше федеральный закон определяет, что деятельность по профилактике правонарушений ‒ это «совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения»1. Основные направления профилактики правонарушений осуществляются посредством применения в соответствии с законодательством Российской Федерации специальных мер профилактики правонарушений уголовно-правового, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера (ч. 2 п. 9 Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»). Исходя из смысла закона, эту деятельность осуществляет значительное количество субъектов. Однако, несмотря на это, в первом полугодии 2025 г. продолжается рост преступлений экстремистской направленности (+45,3 %) и террористического характера (+84,2 %), а из всех выявленных лиц, совершивших преступления, 52,7 % из их числа ранее преступления уже совершали2.
Для иллюстрации вышеизложенного можно привести следующие результаты исследования. Наиболее криминогенную категорию осужденных представляют ранее судимые. В настоящее время в исправительных учреждениях (далее ‒ ИУ) находится 5,6 % от общего количества осужденных за преступления террористического характера (при опасном рецидиве – 0,8 %; особо опасном рецидиве – 1,4 %; простом рецидиве – 3,4 %). При этом следует учитывать, что 11,5 % осужденных совершили преступление в группе по предварительному сговору, 12,9 % – в организованной группе, а 2,3 % – в составе преступного сообщества. В целом в состав группы (ст. 35 УК РФ3) при совершении преступлений входили 27,4 % осужденных за экстремистскую деятельность и преступления террористического характера. Что характерно, 66,7 % осужденных за экстремистскую деятельность были трудоспособными гражданами без определенного рода занятий или безработными. Полностью отрицают свою вину более 30 %, а около 70 % экстремистов-террористов не сожалеют о совершенном преступлении.
Наиболее криминогенными возрастными категориями являются группы 18–24 лет (37,0 %), 25–30 лет (37,4 %) и 31–37 лет (15,8 %). Именно с возрастной группой осужденных от 18 до 37 лет (90,2 % из всего числа осужденных за экстремистскую деятельность и преступления террористического характера) необходимо в первую очередь проводить превентивную работу всеми доступными ее субъектам силами, средствами и методами, как в ИУ, так и на свободе (гласную и негласную) ‒ инициативную оперативно-профилактическую работу.
Поэтому наибольший эффект может быть достигнут в том случае, если такая деятельность осуществляется комплексно. Можно также сделать вывод, что именно среди возрастной категории осужденных 25‒37 лет может быть наиболее подготовленный к экстремистской и террористической деятельности контингент, который имеет знания и навыки к ее скрытной подготовке и осуществле-нию1. Это позволяет им продолжительное время скрывать свою подготовительную деятельность.
Поэтому целесообразно проводить целевые оперативно-профилактические и воспитательные мероприятия, направленные на их исправление, перевоспитание и религиозное просвещение, а в ходе их проведения противодействовать их преступным замыслам. В эту деятельность, а особенно в профилактику рецидива преступлений и противодействие экстремизму и терроризму, вовлечены не только сотрудники правоохранительных органов согласно своей компетенции, но и заинтересованные в ней государственные и муниципальные органы государственного управления и местного самоуправления, волонтерские, общественные и религиозные организации, представляющие различные конфессии, зарегистрированные в России.
Рецидив преступлений, экстремизм и терроризм являются наиболее сложными проблемами для современного российского общества. Это обусловлено многообразием их проявлений, неоднородным составом криминальной субкультуры, экстремистских и террористических организаций. Наибольшую опасность из их числа представляют приверженцы радикальных течений в исламе, в частности те, которые не относятся к представителям народов, традиционно исповедующих ислам, но отличаются религиозным радикальным фанатизмом, благодаря чему их легко склонить к совершению преступлений экстремистской направленности или террористического характера. Однако эти течения никак нельзя идентифицировать с истинной исламской верой2.
Поэтому важным является вопрос о возможности применения потенциала религиозных вероучений и их использования в противодействии экстремизму и терроризму, в профилактике рецидива преступлений, считая ранее судимых вероятными объектами для вербовки в качестве новых участников экстремистских и террористических организаций. Поэтому в целях плодотворного противодействия их преступной деятельности обязательное использование различных положений религиозных вероучений в борьбе с преступностью на территориях их исповедания приобрело новый смысл, так как их положения могут оказать неоценимую помощь в противодействии различным криминальным угрозам правоохранительной функции государства в целом.
Учитывая, что ислам является второй преобладающей религией во многих мировых государствах, включая Россию, большое значение приобретает организация оперативно-розыскной деятельности и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий с учетом особенностей исламского вероисповедания, изложенных в Священном Писании мусульман – Коране. Особенно вновь стало актуальным знание положений ислама с начала XXI в. в связи с экстремистскими и террористическими угрозами со стороны участников радикального течения в исламе, так как знание Корана приносит гораздо больше пользы, чем вреда. Это объясняет современное обращение к исламу, а некоторая часть мусульманского канонического права вновь востребована и может быть использована в интересах осуществления оперативно-розыскной деятельности и проведения оперативно-розыскных мероприятий для профилактики рецидива преступлений, противодействия экстремизму и терроризму. Одновременно их субъекты должны обладать знаниями и умениями в области права, педагогики и психологии и, что не менее важно, ‒ обширными познаниями в фундаментальных идейно-идеологических и мировоззренческих основах мировых религий, их роли и месте в истории развития человечества и в современном мире.
Одними из активных участников в деятельности по профилактике рецидива преступлений, противодействию экстремизму и терроризму стали религиозные организации, представляющие различные религиозные конфессии, зарегистрированные в России. В последнее время их деятельность особенно активизировалась в ИУ, обусловленная ограниченными социальными связями осужденных с внешним миром и лицами, не относимыми к категории осужденных, отбывающих наказание в ИУ. Это стало возможно благодаря принятому федеральному закону, регулирующему правоотношения в сфере обеспечения прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания. В нем было определено правовое положение религиозных объединений, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и законодательно определено их право на проведение религиозных обрядов и церемоний в ИУ при соблюдении норм уголовноисполнительного законодательства1. В этих целях администрация ИУ по личной просьбе осужденного обязана приглашать священнослужителей из числа официально зарегистрированных в России религиозных объединений по его выбору2.
Все законодательные нормы, о которых было сказано выше, имеют свою регламентацию в ведомственных нормативных правовых актах и соответствующих соглашениях о взаимодействии органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) с зарегистрированными в установленном порядке централизованными религиозными организациями3.
Объявление подобного приказа было обусловлено тем, что современные уголовно-исполнительная политика и практика исправления и перевоспитания требуют внедрения новых и совершенствования известных форм и методов воспитательного и педагогического воздействия на осужденных. Несомненно, в этой работе немаловажную роль играют представители традиционных конфессий, которые свою миссию осуществляют в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве в храмовых учреждениях, расположенных на территории учреждений УИС (храмы Русской православной церкви, исламские мечети, буддийские дуганы, костелы Римско-католической церкви) и молитвенных комнатах (для представителей Русской православной церкви; для исповедующих ислам, буддизм, иудаизм; Российского союза евангельских христиан-баптистов, последователей веры Евангельской и представителей Римско-католической церкви).
Во многом благодаря этому в ИУ созданы и существуют религиозные общины, принадлежащие различным конфессиям. Священнослужители в них удовлетворяют потребность осужденных в формировании общепризнанных мировоззренческих установок, положительно воздействуют на их нравственное здоровье и поведение (Малышева, 2021: 104‒105). То есть их деятельность в ИУ решает задачи религиозно-духовного просвещения, пастырской душепопечительской помощи и коммуникативно-ресоциализационной помощи лицам, отбывающим уголовное наказание в органах и учреждениях УИС, а также задержанным, арестованным и подследственным; иным категориям лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с уголовным преследованием; членам их семей, детям и родственникам заключенных под стражу. Главная цель этой деятельности заключена в необходимости воплощения слов: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19) , которые остаются неизменными до сих пор для миссионерской деятельности всех религиозных организаций и конфессий, хотя и претерпевают исторические изменения и способы решения ее задач4.
В целом же эту деятельность необходимо рассматривать как составную часть государственной уголовной политики, функционально обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общества и самого государства от криминальных посягательств. В основе этой политики лежат конституционные положения, которые обеспечивают единый процесс борьбы с преступностью (Пудовочкин, Бабаев, 2023: 141‒143). Поэтому при ее осуществлении важно воспитательное воздействие на лиц, замышляющих, подготавливающих, совершающих и совершивших преступления, формирование у них способности воспринимать и правильно оценивать окружающий их мир, поступки и поведение окружающих их людей. Итогом этого должно быть осознание ими негативного отношения к совершению преступлений. Важной формой такого воздействия, по мнению А.И. Зубкова и М.Г. Деткова, продолжает быть религиозное влияние в целях исправления, перевоспитания и религиозного просвещения отдельных граждан из категорий, перечисленных выше1.
Сама по себе проблема перевоспитания и исправления, особенно осужденных, содержащихся в ИУ, не нова для правоохранительных органов России. Однако для нее было характерно отсутствие правовой и научной основы организации этого процесса в пенитенциарных учреждениях: даже если она и существовала, на нее был невысокий спрос в практической среде, так как ей не предавалось достаточного внимания, а необходимость пенитенциарных знаний осознавалась не всеми государственными чинами (Гомонов и др., 2019: 4).
Несмотря на это, в Российской империи формированию правопослушной личности уделялось большое внимание. Важная роль в этом отводилась церкви, которая занималась духовнонравственным исправлением, перевоспитанием и просвещением заключенных. Священнослужители, согласно закону от 15 июня 1887 г., были отнесены к аппарату управления отдельных мест заключения2. Функции священника по надзору за нравственным исправлением и перевоспитанием арестантов, а также содержание его работы в местах заключения получили наиболее детальное развитие в Уставе о содержащихся под стражей при полиции и в тюрьме и Общей тюремной ин-струкции3. В этих документах, в частности, говорилось, что «исправление нравственности заключенных есть один из главных предметов попечительства» (п. 153 Устава о содержащихся под стражей при полиции и в тюрьме4). В соответствии с ними священник должен был постоянно общаться с заключенными, исповедовать их «с увещеванием о раскаянии и добровольном пред судом признании в преступлениях» (п. 155 Устава о содержащихся под стражей при полиции и в тюрьме5). Кроме того, подчеркивалось, что «дело религиозно-нравственного воспитания арестантов составляет великую важность и не терпит отлагательства» (п. 155 Устава о содержащихся под стражей при полиции и в тюрьме6). Кроме того, в ст. 244 Общей тюремной инструкции говорилось, что «духовно-нравственное воздействие на арестантов имеет своим назначением внушение им правильных понятий о религии и об общих гражданских обязанностях, требующих преданности Престолу и Отечеству и почитания соответствующим законам и властям»7. Для этого использовались также приемы психологического воздействия на личность арестанта, которые основывались на его человеческих слабостях и особенностях личности. Именно в конце XIX – начале XX вв. в пенитенциарных учреждениях начали создаваться институт идеологического воздействия на личность осужденного (Пушкарев, 1985: 59‒60), система и организационные структуры проведения духовно-нравственной и просветительной работы. Стала совершенствоваться такая форма ресоциализации, как институт патронажа, который предоставлял социальную помощь осужденным в период отбывания ими уголовного наказания и после освобождения из ИУ.
Однако организационные связи церкви с ИУ и ее участие в исправлении и перевоспитании осужденных были нарушены и сведены до минимума после развала Российской империи в 1917 г. С этого года на долгое время духовная и благотворительная деятельность церкви была приостановлена, что было связано с процессом ее секуляризации, запретом изучения религии во всех заведениях государственного типа, а также полным отстранением ее религиозных организаций от участия в воспитательном воздействии на осужденных8. В свете этого, оценивая в целом характер идеологического воздействия церкви на осужденных, М.Г. Детков отмечал его характерную особенность – ограничить формирование правопослушной личности осужденного лишь рамками религиозного просвещения9. Хотя в Священных Писаниях подчеркивается целе- сообразность воспитательного воздействия и положительного влияния на прихожан, для которых моральные правила и нормы поведения, изложенные в церковных законах, религиозных заповедях и догматах1, могут быть стимулом их правопослушного поведения. Они всегда были правовой основой уголовной политики любого светского государства и фундаментом всех законодательных законотворческих инициатив (Оганесян, Форре-Транзелева, 2011: 67).
Поэтому через реализацию социальной функции религии, предостерегающей ее последователей от дурных поступков, она вновь стала востребованной в современной России и правоохранительной деятельности. Роль религии в этом случае детерминирована усложнением межличностных, межконфессиональных, межэтнических отношений и вновь востребована благодаря своим религиозным ценностям (Багаева, Цырендоржиева, 2023: 28).
Социальная важная коммуникативная роль религии стала возможной в результате ее влияния на поведение отдельных (групп) людей, находящихся в самых различных жизненных ситуациях. Она реализуется через систему норм (включая моральные) и требований, запрещающих, в том числе, совершение преступлений (табуирование)2. И эта деятельность не ограничивается только территориями ИУ, что свидетельствует о сложном, комплексном, межотраслевом характере исправительного процесса, который не может ограничиваться только нормами уголовноисполнительного законодательства, а он сам – процесс исправления и перевоспитания осужденных ‒ переживает свое возрождение, будет осуществляться, совершенствоваться в дальнейшем и расширять свою географию. Для этого одним из таких направлений может быть совместное участие заинтересованных субъектов профилактики рецидива преступлений и противодействия экстремизму и терроризму в организации для освобождаемых осужденных центров социальной реабилитации на базе церквей, мечетей и молитвенных (молельных) домов, приходов или монастырей. Однако члены религиозных организаций в этой деятельности недостаточно активно используются. В главе 3 Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации»3, посвященной исполнительной пробации, религиозные организации не упоминаются как ее субъекты, а в главе 4, регулирующей пенитенциарную пробацию, функция церкви сведена лишь к восстановлению и укреплению семьи и социально полезных связей освобождаемых из ИУ (Скоморох, Самарин, 2023: 55). Однако следует отметить, что упомянутые два вида пробации в деятельности религиозных организаций в ИУ очень важны именно для осужденных за экстремизм и терроризм, имеющих две и более судимости, так как именно в Священных Писаниях большинства религий (иудаизм, христианство, ислам), проповедуемых в России, наиболее доходчиво излагаются и комментируются фундаментальные морально-нравственные основы существования и совместного проживания людей и их «бытия», определяются перспективные направления развития всего человечества. Они до настоящего времени не имеют альтернатив и давно признаны золотым правилом нравственности: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12). Они же, но в иной формулировке, изложены и в Коране: «Вся религия принадлежит только одному Аллаху. Если же они уверуют в Аллаха и спасутся от наказания, то не надо сражаться с ними, и не должно быть вражды, кроме как к неправедным, которые совершают грехи и творят несправедливость» (Сура 2:193); «…не на тебя (о Мухаммад!) возложена ответственность вести их праведным путем или заставить их творить добро. Твоя ответственность в том, чтобы донести до них заповеди Аллаха, а Он ведет прямым путем того, кого захочет, и открывает их сердца к истинной вере. … Что бы вы ни пожертвовали на благие дела, вам будет полностью воздано за это, и вы не будете обижены!» (Сура 2:273). Поэтому представители всех религиозных организаций и отдельно взятые священнослужители в ИУ должны доносить до своих слушателей-осужденных мысль о том, что они, независимо от своего криминального статуса, после отбытия срока уголовного наказания должны ориентироваться в своей последующей жизни на нормы и правила, изложенные в Священных Писаниях. В них говорится, что имеющееся материальное и социальное неравенство между людьми существует по замыслу, чтобы испытать живущих на земле людей: как они смогут распорядиться божескими дарами и благами. «Он одних по степеням возвысил над другими, чтоб испытать вас тем, чем Он вас наделил» (Сура 6:165). Но, несмотря на социальное и иное неравенство людей, в том числе в среде представителей криминальной субкультуры, все они по-разному понимают слово «грех», то есть несоблюдение заповедей (заветов), которые предписаны определенным религиозным учением, нарушение которых влечет за собой изменение фундаментальных морально-этических основ общечеловеческого бытия, общепринятого в обществе. Также следует подчеркнуть, что и в криминальной среде с ее устоявшейся иерархией и тюремными традициями также имеются «грешники», но их мораль, этика, человеколюбие и меценатство отличаются от тех, кто далек от криминала. Вместе с тем вероучение о борьбе с грехом и его преодолении является фундаментальным понятием, так как человек, совершивший грехопадение, утрачивает общечеловеческие и религиозные ценности, теряет богообразный человеческий облик, а в криминальной среде такой человек может быть развенчан за свои прегрешения «воровской сходкой». Из-за грехопадения происходят изменения в любом человеческом общении (криминальном и некриминальном). На сегодняшний день пророчески звучат слова святителя Иоанна Златоуста: «…мы извратили порядок и зло усилилось до того, что мы заставляем душу следовать пожеланиям плоти…»1.
Согласно православной традиции, сохранение человеком богоданного ему достоинства обусловлено жизнью в соответствии с нравственными нормами, ибо эти нормы выражают первозданную, а значит, истинную природу человека, не омраченную совершением преступления и греха в целом, как его надстройку2. Любой человек, особенно неоднократно судимый, несет в себе склонность к совершению нового преступления, то есть новому греху, новым нарушениям уголовного законодательства. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4). Наряду с этим вера в Бога дает шанс преодолеть свое желание продолжать совершать преступления (продолжать грешить) и преодолевать свою криминальную страсть (Бабкина и др., 2013: 185, 337).
Большинство осужденных, неоднократно отбывавших уголовное наказание в ИУ, не знают истинной цели своего предназначения, предписанного им в Священных Писаниях, а потому следуют путем неоднократного грехопадения, который рано или поздно, но обязательно приведет их к вечной смерти моральной или физической: «Входите тесными вратами, потому что широки́ врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф. 7:13).
Разумное использование в беседе с осужденными цитат из Священных Писаний может способствовать исправлению некоторых из них, отказу от преступного образа жизни и криминального поведения. При этом как представителям различных религиозных конфессий, так и сотрудникам ИУ необходимо учитывать, что материальное стимулирование, психологическое принуждение и физическое давление могут достичь лишь кратковременного, как правило, разового успеха в профилактике рецидива преступлений, противодействии экстремизму и терроризму в среде осужденных, в то время как моральный фактор, во взаимодействии с религиозным просвещением, может сыграть важную роль. Лишь они позволят противодействовать ошибочным утверждениям представителей криминальной среды о том, что каких-либо проблем с моралью и этикой у лиц, совершающих преступления, не существует. В то время как в Торе, Новом Завете и Коране говорится о «неизбежности поэтапного ментального развития человечества; о специфике мировосприятия, нормах, правилах и ценностном мире, характерных для каждого ментального типа этносов и народов мира, а также о стратегическом направлении развития человечества, предопределяющем все стороны его существования и дальнейшего развития» (Оганесян, 2024: 3).
С учетом вышеизложенного священнослужители и сотрудники правоохранительных органов с помощью текстов Священных Писаний смогут в доступной форме донести до всех осужденных мысль о том, что они, как и все остальные люди, призваны соблюдать заповеди, законы и установления, сформулированные в них, так как все они имеют божественное происхождение и все люди перед Богом равны3. Для множества народностей, населяющих Россию, существуют еще и религиозные нормы, которые являются разновидностью социальных норм поведения. Таким образом, когда проповедуются религиозные постулаты, одновременно объясняются социальные нормы «хорошего» поведения. Для многократно судимого человека правила такого поведения не сразу становятся нормой. Должен пройти длительный отрезок времени, чтобы осмыслить их и следовать им.
Практика показывает, что персонал ИУ также должен быть знаком с текстами Священного Писания. Знание этих текстов, наряду со священнослужителями, вызывает уважение и доверие к сотрудникам ИУ у осужденных. Благодаря использованию конкретных цитат можно донести до осужденных ошибочность их мировоззренческих взглядов (Оганесян, 2018: 30‒34). Важность этой регулятивной функции религии заключена в том, что она поддерживает и усиливает действие общепринятых социальных и моральных норм поведения. Посредством этой функции осуществляется как церковный, так и социальный контроль за вновь обращенными в веру осужденными, что органически согласуется с духовно-нравственным предназначением религии. Такая роль религии присутствует во всех традиционных верованиях. В Новом Завете сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22: 37‒40). В индуизме «Махабхарата» (изречения Будды) устами одного из его героев по имени Видура (1000 г. до н. э.) наставляет: «Пусть [человек] не причиняет другому того, что неприятно ему самому. Такова вкратце дхарма – прочее проистекает от желания» (Махабхарата 5:1517). В исламе золотое правило называется «Хадис о милостыне»: «Не уверует никто из вас [по-настоящему], пока не станет желать своему брату [по вере] того же, чего желает он самому себе» (Хадис № 13). Пророк Мухаммад в «Суннах» наставлял: «Делайте всем людям то, что вы желали бы, чтобы вам делали люди, и не делайте другим того, чего вы не желали бы себе» (Хадис № 13). То есть золотое правило отождествляется с заповедями о любви к ближнему, указывая на стандарты человеческого общения и взаимоотношения между людьми (Апресян, 2008: 202, 204).
Не менее важным является вопрос о возможности использования религиозных воззрений в профилактике рецидива преступлений и противодействии экстремизму и терроризму при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в учреждениях УИС и за их пределами.
Многовековая история развития человечества свидетельствует о том, что при любом государственном строе была, есть и будет необходимость осуществления разведывательной работы «Средь них есть те, Кто слушает тебя (притворно)» (Сура 10:42). При всех царях, халифах, султанах, шейхах и императорах были тайные методы сыска и использовались тайные осведомители, не фигурировавшие в уголовном судопроизводстве и уголовном процессе. В любой общественнополитической государственной формации всегда применялись нетрадиционные подходы к формам и методам разведывательной, контрразведывательной и правоохранительной деятельности. «Сколько помнит себя человечество, инстинкт самозащиты рода, племени, государственной общности выделил тех, кого в Библии …» определили в особую касту борцов с криминалом (Илларионов, 2003: 164, 168). На такую категорию граждан возлагался ряд специальных обязанностей по борьбе с преступностью, включая их внедрение в преступные формирования для их разобщения и обезвреживания (Роуан, 1992: 209‒210, 357; Данилов, 1995: 48‒51). Вот почему некоторые положения мусульманского канонического права могут быть использованы в решении задач оперативно-розыскной деятельности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это вызвано тем, что воля верующего человека, в том числе экстремиста и террориста, направлена, прежде всего, на то, чтобы неукоснительно соблюдать все предписания своего вероисповедания, верить посланникам и руководствоваться путем Аллаха, который он им предписал1.
Основные источники мусульманского канонического права имеют свою иерархию. Высшая юридическая сила, не подлежащая изменению, принадлежит Корану, священной книге мусульман, «Сунне». Второстепенными источниками считают «иджму» и «кияс». Считается, что священная книга ислама Коран исходит от Аллаха (Бога); Сунна – это традиции, связанные с Мухаммадом – посланцем Бога2; Иджма – единое соглашение мусульманского общества, предложенное общепризнанными религиозными авторитетами3; Кияс – суждения по аналогии, высказанные учеными-юристами и учеными-богословами4.
У иудеев таким посланником был Моисей, передавший своему народу святой Закон – Тору; христианство сформировалось с приходом Иисуса Христа, принесшего Евангелие; и, наконец, ислам сложился с приходом посланника Мухаммада и священной книги – Корана.
Вместе с тем при внимательном прочтении религиозных источников ислама неоднократно можно обнаружить упоминание о применении методов негласного сбора информации, которые использовали при достижении своих целей как пророк и его сторонники, так и их противники. Пророк Мухаммад имел широкую сеть источников информации, с помощью которых всегда располагал достоверной и нужной информацией о событиях, происходящих не только в своей общине, но и соседних племенах, не принявших мусульманство. Некоторые способы связи Мухаммада со своими разведчиками и осведомителями аналогичны современным способам передачи оперативно-розыскной информации – путем личных встреч в обусловленных местах, посредством зашифрованного общения с использованием тайников, при помощи специально обусловленных сигналов и других вербальных и невербальных способов.
Необходимо отметить, что как таковые «донос» и «осведомительство» о подготавливаемом или совершенном преступлении и в Российской империи на протяжении многих веков рассматривались как общепринятое правило поведения (Королев, 1996: 35‒36). Например, в 1782 г. был утвержден Устав благочиния, который ознаменовал очередную реорганизацию полиции в России, наделив ее большими правами при ведении дознания, выявлении, раскрытии и предупреждении преступлений, для чего им разрешалось использовать осведомителей, наблюдение и специальный штат нижних полицейских чинов, которые производили негласный поиск преступников, маскируясь под различные категории преступников или обывателей, «пользуясь близким знанием жителей своего участка и местности, стараясь не возбудить никакого подозрения или недоверия» (Мулукаев, 1979: 12). В настоящее время такой метод добывания информации называется «личный сыск». В Саудовской Аравии содействие спецслужбам является обязанностью, которая определена Королевским указом. С одной стороны, доносительство – аморальный поступок, а с другой – оно необходимо для противодействия преступлениям в целом и особенно экстремизму и терроризму, а также для обеспечения общественного порядка.
Мусульманские юристы для обоснования допустимости использования осведомителей в целях борьбы с преступностью и обеспечения безопасности общества и государства, приводят слова Корана: «Помогайте же друг другу в хорошем (в благих делах) и богобоязненности (в избегании запрещенного), но не помогайте друг другу в грехе (в совершении зла) и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании (тех, кто не повинуется Его повелениям)» (Сура «Аль-Маида», аят 5). Они рассматривают (комментируют) указанную суру как допустимость сотрудничества с органами власти или предотвращения зла самостоятельно. Различные формы донесения или долговременное гласное и негласное сотрудничество считаются допустимыми. Однако, в отличие от мусульманского права, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» предусматривает социальную и правовую защиту граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Разъяснение положений российского законодательства может положительно повлиять на результат вербовочной беседы с мусульманином.
В то же время мусульманское право допускает использование содействия осведомителей и частных лиц для добывания доказательств и поддержания обвинения в суде. Дело в том, что в судебном разбирательстве мусульманское право устанавливает допустимость только тех доказательств, которые получены с соблюдением всех правил и процедур, предусмотренных Шариатом. Он, например, в обязательном порядке требует участия в суде самого свидетеля, опираясь на положение Корана: «Попросите двух справедливых из вас стать свидетелями» (Коран, 65:2), которые должны, с принесением клятвы на нем, подтвердить, что они видели или слышали. Клятва на Коране – бесспорное и не подвергающееся сомнению доказательство в судопроизводстве.
Как уже было сказано, с древнейших времен человеческий фактор является основой оперативно-розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. Специфические приемы обеспечения зашифрованного поведения осведомителей обеспечивали решение важнейшей задачи оперативно-розыскной деятельности – установление доверительных отношений с обладателями оперативно-значимой информации и документирования противоправной деятельности проверяемых или разрабатываемых лиц. Однако, несмотря на древние корни, профессия осведомителя (разведчика, агента, конфиденциального сотрудника) и его работа нуждается в совершенствовании и повышении ее социальной роли и значимости как важная для окружающих граждан деятельность. В частности, о необходимости ее совершенствования при организации противодействия экстремизму и терроризму в учреждениях УИС говорят 91,4 % их оперативных сотрудников (Галахов, Никитин, 2021: 4‒13).
В Коране содержатся некоторые положения, влияющие на каноническое мусульманское право и исламские межгосударственные правовые акты, имеющие прямое отношение к осуществлению современной оперативно-розыскной деятельности сотрудниками оперативных подразделений в Российской Федерации.
Из их числа можно выделить следующие.
Право на неприкосновенность жилища . Мусульманское право запрещает проникновение (гласно и негласно) в жилище без разрешения проживающего в нем человека, независимо от статуса лица, проникающего в него, и того, в чье жилище осуществляется проникновение. Один из аятов Корана гласит: «Не входите в дома Пророка, если только вас не пригласят» (Сура 33:53). Шариат строго придерживается данного правила1.
Вместе с тем средневековым исламистским богословом Аль-Газали сформулировано исключение из этого правила. В связи с ним «возможно проводить обыск в жилище, если кажется, что там совершен или совершается грех или преступление» (Рахимов, 2010: 45). Автор не уточнил, кто имеет право проводить такой обыск, с чьего разрешения (санкции), в каком виде (гласно или негласно) и по каким составам преступлений его можно проводить. Другой богослов указывает, что мусульманское право запрещает «выведывать секреты, таящиеся в жилище человека, и пытаться проникнуть в его частную жизнь» (Хасан, 1996: 4-6).
Своеобразный подход в мусульманском праве к такому оперативно-розыскному мероприятию, как «наблюдение» . Без судебных санкций наблюдение (слуховое и визуальное) за лицом, находящимся в жилище, запрещено, даже если отсутствует проникновение в само жилище. Однако наблюдение техническими средствами во всех публичных местах считается допустимым, поскольку не ограничивает прав на тайну и неприкосновенность частной жизни.
При этом для мусульманского права безразлично, кто раскрывает преступление - полиция или частное лицо. Для традиционного преследования родственниками потерпевшего и в целях исполнения кровной мести (в порядке исключения) частные лица могут проводить не только наблюдение, но и такие оперативно-розыскные мероприятия, как перехват (перлюстрация) почтовой корреспонденции и прослушивание телефонных переговоров. Правоведы-богословы не уточняют, кто имеет право их проводить, анализируя только их основания и условия для их начала. Главной задачей при их проведении является сохранение общественного порядка и безопасности. Хотя, бесспорно, государственные органы правопорядка и спецслужбы также имеют право их проводить и использовать при этом все разрешенные негласные силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности.
В исламских государствах исторически сохраняется такое оперативно-розыскное мероприятие, как «проверочная закупка», известное также в России (входит в перечень разрешенных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности») и проводится в других зарубежных странах . В Коране имеются предписания: «Излишествам не предавайтесь, преступая (меру) - Господь не любит тех, кто преступает (дозволенные Им пределы)» (Сура 5:87); «Со справедливой точностью блюдите вес и меру. И не возложим Мы на душу груз, Что больше, чем она поднимет. (Когда ж на суд вас призовут), Вы говорите только правду, Коль, даже против близких и родных. Блюдите верность заповедям Бога, Ведь это - то, что Он вам завещал, Чтоб помнили вы это» (Сура 6:152).
Любое лицо может осуществить проверочную закупку, а результаты сообщить в полицию для принятия соответствующих мер. При отсутствии свидетелей это лицо дает клятву на Коране именем Аллаха. Это обусловлено тем, что любые нормативные правовые акты должны соответствовать Корану, Сунне и определенным исламским традициям.
Только в Кувейте, единственном из исламских государств, в уголовном кодексе предусмотрены нормы и порядок проведения отдельных правоограничительных оперативно-розыскных мероприятий. Но и в них отсутствует четкое перечисление оснований для их проведения и вневедомственный контроль за их проведением.
Однако в этих же странах в последнее время усиленно разрабатываются концепции обеспечения национальной безопасности уже на международном уровне. Одно из направлений в ней - «стратегия предупреждения». Ее сущность состоит в том, чтобы правоохранительные органы и спецслужбы основные силы и средства направили не на расследование уже совершенных преступлений, а на раннее предупреждение возможных преступлений, на этапе замысла и подготовки. В нашем понимании это основное направление имеет определенное сходство с содержанием и сущностью оперативно-розыскной профилактики, осуществляемой оперативными сотрудниками в России для противодействия экстремизму и терроризму в этих учреждениях.
Сложность переубеждения радикальных экстремистов и террористов, отказа от их радикальных взглядов заключается в том, что достаточно часто они прибегают к способу своей защиты, который в исключительных случаях разрешен мусульманам, - совершение действий или произнесение слов, противоречащих исламу. Этот способ, называемый «такыя» (сокрытие своей веры), используется ими при общении с представителями правоохранительных органов, спецслужб и военными, в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах и исправительных учреждениях, при наличии реальной угрозы для их жизни со стороны «неверных». Экстремист или террорист на словах может отречься от своей веры, оставаясь в душе верным Аллаху и Корану. «Кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, – кроме тех, кто был принужден (неверующими) к этому (произнесению слов неверия), при этом в его сердце сохранялась крепкая вера – а тем, кто добровольно совершил неверие – им гнев Аллаха и (в вечности) великое наказание» (Сура «Ан-Нахль», 16:106).
Заключение . Таким образом, использование религиозного просвещения ранее судимых и лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера, обеспечивается посредством уяснения и сохранения духовно-нравственных религиозных основ, формирования человеколюбия к ближним, сохранения и совершенствования морально-этических норм в межличностном общении и дальнейшего поиска компромисса с тем, чтобы оградить, с одной стороны, законопослушное население от рецидива преступлений, совершения преступлений экстремистской направленности и террористического характера, а с другой – через соблюдение принципа неотвратимости наказания и порицание греха преступности попытаться направить оступившегося на путь исправления.