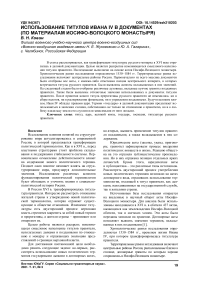Использование титулов Ивана IV в документах (по материалам Иосифо-Волоцкого монастыря)
Бесплатный доступ
В статье рассматривается, как трансформация титулатуры русского монарха в XVI веке отразилась в деловой документации. Целью является раскрытие изменяющегося смыслового наполнения титулов правителя. Исследование выполнено на основе актов Иосифо-Волоцкого монастыря. Хронологические рамки исследования определяются 1530-1584 гг. Территориальные рамки исследования включают центральные районы России. Первоначально из всего массива документов были отобраны все акты, с какими-либо отметками писцов центрального аппарата, в которых встречаются титулы русского правителя. Были выявлены аспекты вкладываемых в них значений. На следующей стадии были отобраны различные духовные, вкладные купчие грамоты подданных правителя. Также были выявлены оттеночные значения использованных в документах титулов правителя. После принятия нового титула прерогативы русского правителя не изменились: ни в сборе налогов, ни в распоряжении финансами, ни в управлении подданными. Будучи великим князем, Иван IV обладал правами царя. Термин «государь» в деловой документации продолжает использоваться в значении «хозяин, собственник» не только по отношению к правителю, но и к любому владельцу земли его слугами или зависимыми от него людьми.
Титул, царь, великий князь, государь, господин, титулатура русского правителя
Короткий адрес: https://sciup.org/147233454
IDR: 147233454 | УДК: 94(367) | DOI: 10.14529/ssh210203
Текст научной статьи Использование титулов Ивана IV в документах (по материалам Иосифо-Волоцкого монастыря)
Исследование влияния понятий на структурирование мира актуализировалось в современной России, в которой продолжается трансформация политической терминологии. Как и в XVI в., перед властными структурами стоит проблема складывания и поддержания стабильности системы. Первоначально осмысление действительности влияет на содержание нового политического термина. Позднее само понятие начинает влиять на структурирование мира, продуцируя дополнительные значения. Исследование различных аспектов функционирования политической терминологии будет обогащать и уточнять знания о социальнополитической истории России.
В России XVI в. трансформировалась титула-тура правителя. Интересно рассмотреть отношение жителей страны к утверждению новой политической терминологии, которая отражает существующие в обществе отношения. Изменение титу-латуры есть двусторонний процесс: верховная власть стремится закрепить за собой новый термин и прерогативы, а жители страны – принимают или отвергают их.
Целью работы является раскрыть изменяющееся смысловое наполнение титулов правителя, используемых дьяками и подданными по отношению к монарху и отражающих эволюцию представлений о границах верховной власти.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: во-первых, рассмотреть использование новых политических терминов государевыми дьяками в договорных актах, во-вторых, выявить применение титулов правителя подданными, а также вкладываемое в них содержание.
Юридические акты (законы, указы, приговоры, грамоты) зафиксировали процесс внедрения политических новшеств в жизнь. Реакцию общества на это отразили публицистические произведения. Но в них отражена позиция отдельных ярких личностей. Кроме этого, юридические акты и публицистика – это различные типы источников. Рассмотреть двусторонний процесс употребления новых политических терминов возможно на актах договорного вида, отразивших использование терминологии, входящей в титул правителя, как дьяками, находившимися на государственной службе, так и жителями страны.
Источниковая база исследования опирается на введенные в научный оборот акты Иосифо-Волоцкого монастыря. Для анализа были использованы находящиеся в XVI в. в обители 437 актов, касающихся как землевладения Иосифо-Волоцкой обители, так и светских хозяев. Эти акты были переданы монахам на хранение. Договорные акты позволяют выявить значения терминов, вкладываемые в них подданными [1].
Хронологические рамки исследования определяются 1530–1584 гг., временем жизни Ивана IV, при котором трансформировалась титулатура правителя.
Территориальные рамки исследования включают центральные районы России, расположенные близко к столице, договорные грамоты по которым хорошо сохранились в Иосифо-Волоцком монастыре.
Объектом исследования выступают титулы Ивана IV, указывающие на прерогативы правителя.
Предмет исследования – эволюция смыслов, вкладываемых в титулы властными структурами и подданными.
Обзор литературы
В XVIII–XIX вв. историки сосредоточили свое внимание на нескольких вопросах при изучении титулатуры русского правителя: когда появляются различные титулы, откуда они были заимствованы, как их принятие влияло на политику правителей.
Основное внимание исследователей XX в., занимающихся временем Ивана IV, было сосредоточено на социальных и политических отношениях. По мнению И. И. Смирнова, С. В. Бахрушина, А. А. Зимина, С. О. Шмидта, Р. Г. Скрынникова, В. Б. Кобрина венчание на царство и принятие нового титула изменило статус и подняло авторитет Ивана IV как на международной арене, так и внутри страны [2, с. 100; 3, с. 65–66; 4, с. 498; 5, с. 329; 6, с. 168; 7, с. 72]. Д. Н. Альшиц, А. Л. Хорошке-вич, А. И. Филюшкин считают, что изменения в титулатуре не придали авторитета, его еще предстояло утвердить [8, с. 35, 229–230; 9, с. 24–25; 10, с. 62–66; 11, с. 124–151]. Однако исследование того, как изменилось отношение подданных к правителю после изменения титулов, не получило отдельного изучения.
Методы исследования
Методологической основой исследования является историко-культурный подход, теоретические положения исторической семиотики и социологии знания. В процессе исследования использовался также метод исторической реконструкции, воссоздающий систему представлений верховной власти и общества о статусе и прерогативах правителя. Тексты всегда создаются в определенной культуре, которая имеет свои системы кодирования. На основе расшифровки значений, заложенных в послании, происходит выявление представлений авторов, используемых ими знаков и символов культуры. Единичные смыслы, извлекаемые из документа, раскрывающие сущность явления, складываются в общепринятые значения, являющиеся искомыми категориями. Коды и правила языка имеют консервативный характер. Их устойчивость позволяет понимать друг друга представителям одной культуры, принадлежащим к разным поколениям.
Результаты и дискуссия
Рассмотрим, как титулатура Ивана IV использовалась правительственными чиновниками в актах, выдаваемых Иосифо-Волоцкому монастырю, имевшему тесные связи с семьей великого князя. После смерти Василия III обитель получила в январе 1534 г. подтверждения по ранее полученным грамотам или новые пожалования, опередив Трои-це-Сергиев монастырь, получивший подобные акты только в феврале того же года [12, c. 302, 317–333].
В десяти грамотах 1534 г. использован только титул «великий князь». Они имеют одинаковое начало «Се яз, князь великий Иван Васильевич всеа Русии...» [1, № 130, 131, 133, 134, 135, 137, 149, 153, 171, 184]. Другие наименования правителя государства не встречаются.
Все сборы пошлин и налогов, которые собирал специально приезжающий из Москвы дьяк, шли в пользу великого князя: дань, включающая ям, посошный корм и разные пошлины [1, № 130, 133, 134, 135, 137, 149, 171], а также городовые строительные повинности [1, № 134, 135, 136, 137, 149, 171]. Монастырские крестьяне должны были платить тамгу в случае торговли с кем-то, не относящимся к обители [1, № 130, 133, 135]. Правитель своей волей мог заменить все это на оброк. Жалобы на монастырь или действия монастырского приказчика имел право разбирать только Иван IV [1, № 130, 133, 134, 135, 137, 149, 171].
Центральная власть не просто подтверждала все привилегии, выданные ранее, но пересматривала их. Некоторым монастырским владениям в Рузе дань, ям, посошный корм, посошная служба и городовое дело были заменены на оброк [1, № 135], другим даровалось освобождение от примета [1, № 131, 133, 134]. Земли, принадлежащие обители в Дмитрове, не освобождались от посошной службы, городового дела и примета [1, № 130, 133]. Некоторые привилегии изменялись, село Покровское освобождалось от податей, но безоброчный тархан заменялся на оброк [1, №14, 133].
После смерти Елены Глинской необходимости в подтверждении ранее выданных жалованных грамот не было, так как официально смены правителя не произошло. Выдаются только разъезжие (одна – 1537 и три – 1541 г.) и сотные грамоты (три – 1543–44 г. и одна – 1545–46 г.). Если первые составлены от имени великого князя [1, № 145, 159, 160, 161], то вторые выдавались писцами великого князя [1, № 178, 179, 180, 198]. Грамоты определяют обязанности крестьян по обработке пашни великого князя.
С 1530 по 1547 г. в грамотах используется только титул «великий князь». Он охватывал все права, необходимые монарху для управления страной: сбор налогов, суд, распоряжение землей и финансами.
Акты, составленные с 1547 по 1564 г., соответствуют формуляру грамот, выдаваемых при Василии III: «се яз, царь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии, пожаловал» [1, № 221, 226, 231, 232, 249, 261]. Подтверждения ранее выданным актам подписаны «царь и великий князь» [1, № 63, 79, 87, 102, 103, 130, 131, 133, 134, 135, 153, 221]. В самом тексте грамот происходит сокращение использования титулов, но упоминание монарха не уменьшается. Происходит их замена на местоимения: «наш, наши, мой, мои».
Разъезжие грамоты (1554, 1558, 1562 гг.) составлены «по царевым и государевым великого князя Ивана Васильевича всеа Русии грамотам» [1, № 250, 273, 296]. Размежевываемые земли принадлежат Ивану IV, поэтому добавлен титула «государь», чтобы подчеркнуть вотчинную собственность.
Грамота об обмене землями с монастырем (1562 г.) содержит разные варианты титулатуры [1, № 295]. Выдается она «по цареву государеву и великого князя» приказу. В месте, описывающем дачу монастырю леса и сена, а также пашни, монарха называют только государем. Использование этого термина подчеркивает право собственности Ивана IV на землю, о которой идет речь. Уполномоченные монарха по этому делу записаны как «царя и великого князя» бояре и дьяки.
Иосифо-Волоцкий монастырь один из немногих получил тархано-несудимую грамоту (1563 г.), которая выдана от имени царя и великого князя [1, № 302]. В архиве монастыря не сохранились две грамоты 1575–76 гг., когда на русский престол был посажен Симеон Бекбулатович. Можно предположить, что причиной их отсутствия была запись Ивана Васильевича только князем Московским [13, с. 214].
В 70–80-е гг. Иосифо-Волоцкая обитель не получила новых приращений к своим владениям [18, с. 204, 214]. Выдана только одна новая грамота (1578 г.) от имени царя и великого князя, подтверждающая все права и льготы, дарованные в 1563 г. [1, № 367.]. Документ 1578 г. соответствует формуляру актов Василия III.
При составлении грамот во время всего правления Ивана Васильевича следовали формуляру, составленному при Василии III. В написание титу-латуры после венчания на царство внесли коррективы. Вместо «великий князь» дьяки стали писать «царь и великий князь». Также стали использовать титул «государь» в грамотах, касающихся вопросов земельной собственности, правитель именовался «царь государь и великий князь», а также в самом тексте мог быть назван «государь». И до, и после венчания на царство Иван Васильевич, находясь на вершине структуры управления, продолжал контролировать собственность, финансы, налоги, суд.
Перейдем к рассмотрению грамот, находящихся в архиве Иосифо-Волоцкого монастыря, составленных светскими людьми.
Две грамоты Марфы, жены Ивана Андреевича Еропкина, датированы 1533 и 1535 гг. Он находился в литовском плену. По имущественному положению они равны: за Марфой было дано приданое сто рублей, примерно на такую же сумму оценивалась отчина Ивана Андреевича. Описывая сложившуюся ситуацию, она называет своего му- жа «Вотчина государя моего мужа», «государя моего мужа люди» [1, № 127], «а выедет государь мой муж Иван Ондреевич из Литвы, и он государь в своей вотчине и в моем приданом волен Бог да он» [1, № 140]. Термин «государь» используется в значении «хозяин, владелец». В тексте также встречается упоминание правителя Ивана IV и мужа: «по государеву слову и веленью великого князя Ивана Васильевичя всея Руси и по государя своего мужа Ивана Ондреевича наказу» [1, № 127]. Термин «государь» еще не превратился в титул государя, о чем косвенно свидетельствует отсутствие клаузулы «государь и великий князь всея Руси», и продолжал использоваться в значении «хозяин, владелец».
Духовная грамота Георгия Михайловича Валуева датируется 1543–1544 гг. [1, № 176]. В ней он государями называет Ивана IV и Андрея Ивановича. Оба пожаловали земельные владения: первый, у которого Георгий Михайлович находился «на государеве посылке великого князя» – «государево жалованье село Мишютино, и мне в том селе досталось государева серебра во крестьянех», второй – «пожаловал меня государь мой князь Андрей Иванович в Олексинском уезде в Волкони». В данной грамоте «государь» имеет значение не только того, кто распоряжается земельной собственностью, но и того, у кого находишься на службе. На обороте документа сделана запись второй жены Марфы о том, что она получила свое приданое и «чем меня благословил государь мой Григорей Михайлович от себя сверх». Валуев завещает своим сыновьям от первого брака прикупы к своей вотчине, а также слуг. Термин «государь» обозначает хозяина, имеющего собственность, которой может быть земля или слуги. Являясь для кого-то государем, одновременно сам он может быть слугой.
В 1547–1548 гг. Кузьма Васильевич сын Лапшин составил духовную грамоту, в которой распоряжается погрести себя «государю игумену и святой братие» [1, № 204]. Его подчиненное положение объясняется тем, что он постригся в Иосифо-Волоцкий монастырь [1, № 206], перейдя в подчиненное настоятелю положение.
До венчания на царство термин «государь» не стал только титулом правителя. Его продолжают использовать в отношении собственников и хозяев.
Два брата Иван Истома и Иван Дмитриевич Курчев после 1553 г. составили свои духовные грамоты. После смерти родителей они нераздельно владели их вотчинами. Но в своих грамотах по-разному записали от кого унаследовали: если Иван Истома – «отец наш Дмитрей Давыдович благословил и пожаловал нас своею вотчиною», «мать наша государыня Ульяна Михайловна благословила нас своею вотчиною», «что мать наша государыня прикупила» [1, № 248], то Иван Дмитрие- вич – «отец мой государь благословил и пожаловал село» [1, № 228]. Духовная грамота второго брата сохранилась не полностью, что не позволяет уточнить ситуацию наследования деревень и сел. Иван Истома сообщает, что он вкладывает в монастырь вотчину, которая принадлежала его матери, на основании чего мы можем сделать вывод, что именно ему досталась материнская часть наследства. Данные грамоты позволяют высказать предположение, что термин «государь» используется прежде всего по отношению к людям, владеющим собственностью. Для того, кому они ее передали, они являются государями.
Евдокия, вдова Григория Юрьевича Толбузи-на, передавая в монастырь в 1554–1555 гг. села и деревни, объясняет отсутствие сына, что «ныне-ча он на цареве службе». А «как даст Бог будет с царевы службы...», то он подтвердит желание Григория Юрьевича [1, № 251].
В написанной в 1555–1556 г. сыном Алферия Васильевича Мижуева грамоте указано принадлежащее Ивану IV село. Граница обозначена «копаны ямы меж царева и великого князя села» [1, № 256]. Для составителя важно указать, что хозяин села царь и великий князь. Он не вступает с ним ни в какие отношения.
В духовной грамоте, составленной в 1556– 1557 гг. Василием Ивановичем Внукова-Пушкиным, используются одновременно два термина «государь» и «господин»: «приказываю душу свою государю старцу Давыду Курбатову да господину своему Семену Федорову Татищеву» [1, № 265]. Давыд Курбатов – уважаемый человек, один из двадцати монахов, передавших монастырю крупный вклад на сто рублей [14, с. 147]. Он один из соборных старцев, который покупал для монастыря земельные владения [1, № 215, 216, 218, 254]. Оба термина используются перед именами душеприказчиков. Но «государь» стоит перед более уважаемым человеком и отражает большую весомость содержания, вкладываемого в понятие, чем «господин».
Делая вклад в монастырь в 1558–1559 гг., Дмитрий Григорьевич Плещеев сообщил о двух ковшах «царева государева великого князя жалованья», а также о деньгах, которые когда-то «царь государь князь великий Иван Васильевич всеа Ру-сии, велел те деньги отдати мне» [1, № 274]. Если первый случай имеет значение одаривания за службу, то второй – восстановления справедливости, проявления милости к подчиненному. Плещеев подчеркивает свое зависимое положение.
Степан Головин, сын Обобуров, в 1558–1559 гг., «идучи на службу царя и государя великого князя», составил духовную грамоту на случай смерти «на государевой службе» [1, № 276]. В тексте он обратился к правителю с просьбой «милостивый государь православный царь, князь великий не покажет жене поместьице не даст на про- житок», «пожалует провославный царь государь князь великий, даст жене ... да дочери ... поместьица на прожиток». Степан Головин использовал три титула правителя, стараясь подчеркнуть значительность того, к кому он обратился. Решение по его вопросу полностью зависело от воли правителя. Нет никаких оснований для положительного решения по его просьбе, кроме желания монарха.
Марья, вдова Федорова Григорьевича Нелидова-Ракитина, при пострижении в монахини сделала вклад монастырю село Старое Яковлевское, который получила ранее «по приказу государя своего мужа Федора Григорьевича», с условием «государя моего Федоровай жить ... в том селе до моего живота» [1, № 283]. Имея приданое 13 рублей, она пришла без земли под покровительство своего мужа, поэтому использует термин «государь» в значении «хозяин, собственник».
Распределяя свое имущество, князь Иван Петрович Звенигородский в 1562–1563 гг. записал «иноходец игрен, што меня князь велики пожаловал» [1, № 299]. Грамота составлена со слов человека, который был тесно связан с двором правителя и еще помнит Ивана IV великим князем, не ставшим царем.
Перечисляя в своем завещании душеприказчиков, князья Иван и Григорий Петровичи Звенигородские используют термин «государь», который подчеркивает значимость для завещателей названных людей, а не служебные или земельные отношения.
Вдова, княгиня Евдокия Васильевна, жена князя Семена Яковлевича Микулинского, сделала вклад деревней, владение которой она обосновывала тем, что «пожаловал государь мой после своего живота за мое приданое князь Семен Иванович» [1, № 301]. Евдокия, выйдя замуж, в приданом не имела земли. Муж пожаловал перед смертью ей часть своей собственности, поэтому для нее он государь. Она также обратилась к настоятелю: «как нашему господину игумену з братьею Бог известит». Передав свою вотчину при жизни, княгиня перешла под покровительство монастыря и стала жить на его содержании.
После венчания на царство и до введения опричнины термин «государь» продолжает означать «хозяин, собственник». Он употребляется как по отношению к правителю, так и по отношению к любому человеку, владеющему землей.
Духовная Василия Андреевича Карамышева составлялась в 1568–1569 гг., «идучи на государеву службу» [1, № 331]. Он владел поместьем, полученным от Ивана IV, и вотчиной, «что государь наш отец писал в своей духовной...». В данном случае «государь» и производные от него слова указывают на сосуществование двух значений: первое – «хозяин, собственник», второе – «тот, кому служишь».
Вдова Андрея Михайловича Кутузова сделала вклад в 1568–1569 гг. «по государе своем по Андрее Михаиловиче и по собе» [1, № 335] вотчиной, которую «дал мне государь мой Андрей Михайлович под Москвою сельцо Васьяново». Вдова Андрея Михайловича, выйдя замуж, не имела земли в приданом. Муж перед смертью пожаловал ей часть своей собственности, поэтому для нее он «государь», распорядитель собственности. Делая вклад, вдова Андрея Михайловича определяла, что буде жить до своей смерти, «а после моего живота оба села и деревни царица Марья даст».
Названная Марья, являвшаяся женой царевича Симеона Касаевича [15, с. 258–260; 16, с. 116; 17, с. 232], подтвердила передачу сел, завещанных монастырю. В этой грамоте она записана царицей [1, № 355]. Одновременно с Иваном IV царский титул продолжали носить потомки татарских ханов, состоящие на службе у русского монарха.
Во вкладной грамоте, составленной от имени вдовы Никиты Ивановича Житова и его сын Дмитрия в 1568–1569 гг., титулы Ивана IV использованы дважды [1, № 343]. Первоначально записано, что вотчиною «нас пожаловал царь и государь князь велики Иван Васильевич всеа Русии в отмен против наше вотчины старицкие села...». Второй раз встречается в сообщении, что нет долгов «в прошлых годех царя и великого князя в дани». Житовы происходят из рода тверских бояр Бороздиных [18, с. 129]. При переходе Старицы в опричнину они вместо потерянных владений получили земли в Волоцком уезде, которые и передали монастырю. Иван IV называется «государем», когда он ведет себя, как собственник, который обменивает вотчины в разных частях страны. Во втором случае отсутствие слова «государь» может быть связано с отсутствием указания на владение территорией.
Степан Дмитриев в 1569–1570 гг., вкладывая свою вотчину при пострижении в монастырь, составил грамоту, в которой часто использован титул «государь»: «пожаловати, государю моему игумену Леваниду з братьею меня Степана ... А корм им пожаловати по мне учинити, как им государем Бог положит по сердцу на маю память ... А Бог, государь, данесет до обители, и яз, государь, вам тае деревеньку нарежу со хрестьяны сваими деньгами, сколько мне государи, не станет. Государь святый игумен Леванид и вся святая соборная братья, пожалте, государи, пречиста хрестьянина да сваего, как вам государем Бог положит по сердцу» [1, № 351]. Используя термин «государь» по отношению к игумену, вкладчик признает полный переход под покровительство настоятеля.
В 1569–1570 гг. Семен Васильевич Степанов в своей духовной грамоте дважды использует термин «государь»: «и вотчинки, что взял государь, и даст государь, против того пожалует», «яз в те поры был на государеве службе в Нижнем
Новгороде» [1, № 352]. В первой цитате появляется новое значение: государь может распоряжаться не только своими владениями, но может принимать решения в отношении чужой собственности. Обмен вотчинами, перемещение с одной земли на другую по воле монарха дало определенный результат, внесло новый оттенок в значение термина «государь». Прерогативы правителя увеличились.
Духовная память Семена Васильевича Степанова была представлена на утверждение митрополиту Кириллу, о чем сообщает приписка на оборотной стороне: «государю преосвященному Кириллу митрополиту всеа Русии ...». Ниже сделана запись речей душеприказчиков: «Преди господином святителем сказал старец...», «...князь Григо-рей Долгоруково перед митрополитом сказал: мне, де, господине, ...», «А яз, господине, тестя своего Семенова руку знаю и яз, господине, х той духовной руку приложил», которая завершается сообщением, что «Господин преосвещенной Кирилл митрополит всеа Руси» ее утвердил. Название митрополита государем скорее всего не случайно. Это может указывать на существовавшее обращение к митрополиту. Между терминами «государь» и «господин» существовала близость значений, не существовало четкой границы. За первым термином еще не утвердилось значение правитель страны, государства.
Ефросинья, жена Федора Григорьевича, в 1577–1578 гг. сделал вклад своей вотчины, которой «меня государь мой отец пожаловал, благословил» [1, № 365]. Термин используется в значении хозяин, собственник.
В 1579–1580 гг. составлена духовная грамота старца Елисея Васильевича Бибикова. В ней дано краткое описание финансового дела: «И Ерман бил челом государю князю Володимеру Ондреевичу на меня, а князь Юрьи был в те поры на службе в Галиче, и государь дал на меня пристава» [1, № 370]. До пострижения он служил Владимиру Андреевичу Старицкому, которого и называет государем. Этот термин продолжает связываться со службой хозяину, а не с понятиями «страна», «держава».
Борис Федорович Годунов сделал вклад села Неверова. В грамоте он вынужден был объяснить, каким образом это село оказалось его вотчиной [1, № 375]. Б. Годунов обратился к «господину игумену Еуфимью». Основная часть начиналась словами «Была, государь, за мною...», но в последующем называл его только господином: «И вы б есте, господине», «И в книги яз, господине, тое вотчину написал», «А ему б, господине, пожаловали». Только один раз Б. Годунов назвал игумена государем, в остальных случаях только господином. В тех случаях, когда упоминал Ивана IV или Федора Ивановича, то всегда именовал их государями. Появляется различие в употреблении слов «государь» и «господин». Если первый обозначает правителя, неограниченного собственника всей земли, то второй указывает на признание своего приниженного положения.
Термином «господин» называют душеприказчиков в духовных грамотах Григория Васильевича Оплечюева, Матвея Ивановича Левашова, Федора Григорьевича Нелидова-Ракитина, Ивана Истомина Курчева, Дмитрия Григорьевича Плещеева, Ивана Афанасьевича Тютчева, Василия Петровича Кутузова [1, № 157, 183, 236, 248, 274, 275, 282]. Душеприказчики исполняют волю завещателя, распоряжаются имуществом, но не владеют им.
В архиве Иосифо-Волоцкого монастыря сохранилось 109 вкладных грамот с 1533 по 1579 г. Начиная с 1540 г. в текст документов вводится информация об отсутствии различных долгов. Самый распространенный вариант сформулирован следующим образом: земля не находится ни в закладе, ни в деньгах, а в хлебе, по кабалам и по записям свободна. Таких грамот шестьдесят. Встречается несколько вкладных, в которых имеется прибавление: не имеется задолженностей по царевым великого князя податям или даням. Таких документов несколько: один – за 1562–1563 гг., девять – за 1567–1570 гг., один – за 1577–1578 гг. Встречается краткая формулировка: земля ни у кого, ни в чем не заложена. Таких грамот девять за 1550–1557 гг. Закономерности в использовании титулов правителя в данной формулировке пока не выявлено.
Титул правителя имеет вариации в употреблении: царь и великий князь, царь и государь великий князь. Термин «государь» в большинстве случаев сохраняет свое основное значение «хозяин, собственник», но у него появляется дополнительное значение. Появляется небольшое различие в употреблении терминов «государь» и «господин».
Выводы
В 1547 г. Иван Васильевич после коронации к своему титулу «великий князь» прибавил еще один «царь». Но ни в праве сбора налогов, ни в управления финансами, ни в распоряжении земельными владениями, ни в системе управления его прерогативы не изменились, а остались прежними. Можно сказать, что предшественники Ивана IV собрали в своих руках неограниченную власть. Став великим князем, он уже обладал правами царя. А в 1547 г. всего лишь привел в соответствие свою реальную власть и титулатуру правителя. И дьяки, и подданные используют в документах титул «царь и великий князь». Слово «государь» во время правления Ивана IV сохраняет значение «хозяин, собственник» и указывает на владение землей и слугами. Термин используется не только по отношению к правителю, но и к любому владельцу земли подчиненными ему людьми. После опричнины появляется допол- нительное значение «хозяин всей земли, распоряжающийся собственностью на территории страны». Слово «государь» становится боле почетным обращением, чем «господин».
Список литературы Использование титулов Ивана IV в документах (по материалам Иосифо-Волоцкого монастыря)
- Акты феодального землевладения и хозяйствования. – М.,1956. – Т. 2. – 663 с.
- Смирнов И. И. Иван Грозный. – Л., 1944. – 108 с.
- Бахрушин С. В. Иван Грозный / Научные труды. – М., 1954. – Т. 2. – С. 53-72.
- Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. Очерки социально-экономической и политической истории середины XVI века. – М., 1960. – 511 с.
- Шмидт С. О. Становление российского самодержавства: иссле-дование социально-политической истории времени Ивана Гроз-ного. – М., 1996. – 359 с.
- Кобрин В. Б. Иван Грозный. – М. 1989. – 174 с.
- Скрынников Р. Г. Царство террора. – СПб., 1992. – 574 с.
- Альшиц Д. Н. Начало самодержавия в России. – Л., 1988. – 244 с.
- Хорошкевич А. Л. Царский титул Ивана IV и боярский мятеж 1553 года // Отечественная история. – 1994. – № 3. – С. 23-42.
- Хорошкевич А. Л. Россия в системе международных отношений середины XVI века. – М., 2003. – 622 с.
- Филюшкин А. И. Титулы русских государей. – М.: СПб., 2006. – 256 с.
- Каштанов С. М. Хронологический перечень иммунитетных грамот XVI в. – Ч. 1. // Археографический ежегодник за 1960 г. – 1962. – С. 129-200.
- Каштанов С. М. Финансы средневековой Руси. – М., 1986. – 246 с.
- Зимин А. А. Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV-XVI в.). – М.,1977. – 356 с.
- Зимин А. А. Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV–первой половине XVI вв. – М., 1988. – 348 с.
- Бычкова М. Е. Состав класса феодалов России в XVI в. – М., 1986. – 219 с.
- Чернов С. З. Волок Ламский в XIV-первой половине XVI в.: Структуры землевладения и формирование военно-служилой корпорации (Акты Московской Руси: микрорегиональные исследования). – М., 1998. – Т. 1. – 544 с.
- Садиков П. А. Очерки по истории опричнины. – М.; Л., 1950. – 594 с.