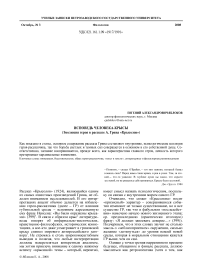Исповедь человека-крысы (эволюция героя в рассказе А. Грина «Крысолов»)
Автор: Яблоков Евгений Александрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (95), 2008 года.
Бесплатный доступ
Как показано в статье, основное содержание рассказа Грина составляют внутренние, психологические коллизии героя-рассказчика, так что борьба светлых и темных сил совершается в основном в его собственной душе. Соответственно, заглавие воспринимается, прежде всего, как характеристика главного героя, личность которого претерпевает кардинальные изменения.
Инициация, бессознательное, образ героя-рассказчика, "текст в тексте", литературные и фольклорные реминисценции
Короткий адрес: https://sciup.org/14749458
IDR: 14749458 | УДК: 821.161.1.09
Текст научной статьи Исповедь человека-крысы (эволюция героя в рассказе А. Грина «Крысолов»)
Рассказ «Крысолов» (1924), являющийся одним из самых известных произведений Грина, не обделен вниманием исследователей. В его интерпретациях акцент обычно делается на избавлении героя-рассказчика (далее – ГР) от влияния губительной среды – вспомним адресованную ему фразу Иенсена: «Вы были окружены крысами» (399)1. В связи с образом крыс2 литературоведы говорят об инфернально-мистических, нравственно-философских, исторических коннотациях, а кое-кто даже усматривает в гриновской крысе символ мирового антироссийского заго-вора3. Не стремясь к столь широкомасштабным выводам и полагая, что любые интерпретации должны подкрепляться конкретным анализом, мы хотим привлечь внимание к одному важному аспекту «крысиной» темы – который, вероятно,
– Помните, – сказал О'Брайен, – тот миг паники, который бывал в ваших снах? Перед вами стена мрака, и рев в ушах. Там, за стеной, – что-то ужасное. В глубине души вы знали, что скрыто за стеной, но не решались себе признаться. Крысы были за стеной.
Дж. Оруэлл. 1984
имеет смысл назвать психологическим, поскольку он связан с внутренним миром самого ГР.
Очевидно, что сюжет «Крысолова» носит «кризисный» характер – совершившиеся события изменяют не только существование, но и все существо ГР, так что в фабульном «последействии» намечено начало нового жизненного этапа; ср. предпоследнюю (практически итоговую) фразу: «Я должен завоевать доверие…» (399)). Подчеркнем, что в этих словах звучит не столько мысль о «неблагоприятном» окружении, сколько желание «дотянуться» до уровня некоей новой среды, которая в моральном отношении кажется ГР выше, чем он сам.
Однако с точки зрения нарративного времени будущее, обещанное в финале рассказа, должно мыслиться как ретроспектива (хотя о том, как сложилась его дальнейшая жизнь, ГР не только не говорит, но даже как бы «табуирует» тему: «И более – ни слова об этом» (399)). Характерны обороты речи, подчеркивающие нарративную дистанцию: «…в те времена многие ходили на чердаки» (367); «У меня был огарок свечи, вещь совершенно необходимая в то время, когда лестницы не освещались» (375). Речь идет о событиях достаточно давних; при этом начало действия точно датируется. Вводя в фабулу автобиографические мотивы4 и значимые даты (см. ниже), Грин явно «проецирует» художественную реальность «Крысолова» на собственную биографию 1920 года5, иносказательно запечатлевая тогдашний перелом во «внешних» обстоятельствах своего существования и индивидуальном мироощущении.
Основу рассказа составляет сюжет перерождения / инициации – все происходящее с ГР может восприниматься как символическая смерть-воскрешение. Справедливо мнение, что одинокий и бездомный герой «Крысолова» оказывается перед лицом хаоса [10; 147], однако следует добавить, что хаос царит не только вокруг, но и «внутри» него, причем этот аспект даже важнее: как нам представляется, именно внутренним состоянием ГР в значительной степени мотивированы фантастические события, в которых он (скорее, мнимо) участвует.
В финале ГР цитирует слова тех, кто перенес его, заснувшего, на кровать: оказывается, «для мужчины» он «был очень легок» (399). Фраза обретает символический смысл. Во-первых, явственна ассоциация с библейским афоризмом: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5:27), – в этом плане перед ГР стоит задача «набрать вес», то есть повысить моральные кондиции. Во-вторых, звучит намек на то, что в течение всего действия ГР пребывал «недоразвитым» мужчиной, как бы подростком или ребенком, и лишь пройдя все испытания, обрел предпосылку к тому, чтобы стать «взрослым».
Действие рассказа начинается 22 марта 1920 года – в Вербное воскресенье (ст. ст.). Данное обстоятельство связывает основное действие со Страстной неделей, таким образом, подкрепляется тема инициации. Вместе с тем 22 марта – следующий день после весеннего равноденствия: грядущее «прибавление» света дает надежду на его победу.
Помимо «прямой» даты в хронологию рассказа должен быть включен номер телефона, по которому пытается позвонить ГР – «107–21» (381) – и который «корректируется» телефонисткой: «Сто восемь ноль один» (383); затем он (в цифровом виде) повторяется на карточке Иен-сена: «1–08–01» (398). Судя по всему, оба номера представляют собой «зашифрованные» даты. 107–21 – это, вероятно, 1 или 10 июля 1921 года: как известно, июнь – июль 1921 года были первыми неделями совместной жизни Александра и Нины Грин (в Петрограде, затем в Токсове), возможно, один из тех дней оказался особенно памятным. Второй номер (10801), похоже, представляет собой «анаграмму» даты (ст. ст.) рождения автора «Крысолова»: 11.08.1880. Поскольку телефонные номера фактически «отождествляются» (один заменяет другой), можно предположить, что Грин тем самым указывает на брак с Ниной Николаевной как на свое «второе рождение».
Художественный мир «Крысолова» отнюдь не «однороден» в смысле достоверности происходящего. Изображенные события в большинстве своем «виртуальны» – совершаются в воображении ГР под влиянием измененного состояния сознания, являются плодом бредовых ассоциаций. В этом отношении характерна сама структура пространства банка, зеркальность которой, как подчеркивает Е. Нагайцева, стимулирует аналогию с запутанными лабиринтами человеческого подсознания; основное следствие такой аналогии – «“неуправляемый (навязчивый) процесс порождения форм” (отражений и идей)» [15; 16–17].
Трудно судить о том, что происходит с ГР «физически»; однако «внутренне» он оказывается в «хаотическом» хронотопе, где причудливо перемешаны реальные детали, обрывки литературных сюжетов и архетипы коллективного бессознательного (например, образы крыс и лабиринта, имеющие богатую фольклорно-мифологическую традицию). «…Мировосприятие героя представлено как транзитивное состояние обыденного и измененного состояний сознания» [15; 18–19]. Характерно, что в психоанализе образ крысы интерпретируется как проявление навязчивых идей [9; 205].
Можно сказать, что преследующие ГР хто-нические создания – это вышедшее из-под контроля подсознание, «овнешненный» детский страх. Ср. эпизод ожидания встречи с неизвестным, чьи шаги ГР слышит за дверью: «…инстинкт, заменив в эти минуты рассудок, говорил истину, тычась слепым лицом в острие страха. Призраки вошли в тьму. Я видел мохнатое существо темного угла детской комнаты …» (386).
В начальных фразах рассказа ГР иронизирует по поводу «присяжных документалистов» (364)6, издевательски-точно (причем дважды) называя дату и тем самым как бы предупреждая, что дальнейшее изложение не только не отличается фактичностью, но и вообще плохо верифицируемо. Недаром в первых главках явно нагнетаются детали, намекающие на аномальность восприятия ГР: голод (365) – «простуда» (366) – тифозный бред (368) – «острая бессонница» (370). По существу, с первой страницы ГР на наших глазах погружается в «хаос». Описывая свое состояние во время болезни, он говорит, что «бред принял форму визитов» (368). По сути, вся фабула «Крысолова» состоит именно из таких «визитов» – воображаемых встреч ГР с более или менее человекоподобными персонажами.
Возвращение к реальности изображено в последнем (точнее, предпоследнем, ибо последний состоит всего из одной фразы) абзаце. Здесь совершается выход из «хаотического» хронотопа – границей между ним и явью оказывается «дикий, дремучий сон» (399).
Рассказ не случайно открывается и заканчивается «книжной» темой. Читая фрагмент сочинения некоего Эрта Эртруса, Иенсен с его помощью объясняет ГР то, что с ним происходило, как бы «вписывает» его приключения в литературный антураж, придавая им статус «текста в тексте». Но превращение ГР в «литературного» персонажа начинается с первых страниц «Крысолова» – и даже раньше: уже в эпиграфе из «Шильонского узника» речь идет о «подземелье» (в поэме Байрона в нем томится главный герой вместе с братьями), таким образом, еще до начала событий вводится тема «подземного лабиринта», по которому затем станет бродить ГР, намечаются хтонические коннотации.
К тому же фамилия, которую носит гриновский Крысолов, в начале XX века была достаточно известна, причем именно в литературном контексте. Вильгельм Иенсен (1837–1911) – плодовитый немецкий7 писатель, реализм которого, как было сказано в современной Грину Литературной энциклопедии, «местами переходит в фантастику и мистицизм, иногда уступая место мотивам поэзии “кошмаров и ужаса”» [14]. Кстати, один из его рассказов в 1912 году был издан на русском языке [13] вместе с посвященной ему статьей З. Фрейда «Бред и сны в “Градиве” В. Иенсена»8, сама тематика которой сближает ее с рассказом Грина9. Однофамилец, датский прозаик Йоханнес Вильгельм Иенсен (1873–1950), пользовался еще большей известностью в России: в 1910-х годах на русском языке вышло 9-томное собрание его сочинений (кстати, впоследствии он стал лауреатом Нобелевской премии).
Фабула гриновского рассказа начинается с эпизода продажи книг, причем последних имеющихся у ГР (366). Он намерен получить за них «цену пяти фунтов хлеба» (366) – воплощена коллизия «хлеба насущного» и «хлеба духовного». Книгами мотивировано знакомство с девушкой, равно как и ее исчезновение: «Я уронил книги, когда же их поднял, девушка исчезла» (367), – будто ее спугнул именно этот «катаклизм». На одной из книг ГР записывает номер телефона (367) – словно «озаглавив» или «пронумеровав» ее. Под этим «знаком» станут разворачиваться дальнейшие события: соединение с забытым номером телефона, разговор по неработающему аппарату и пр. – все это как бы «содержание» проданной героем книги10.
Книгами торгует и девушка – таская их из отцовской библиотеки (хотя слову «воровать» предпочитает более нейтральное слово «пона-шивать») (366). Из проданных ею книг явно не случайно назван «Дон Кихот» (366) – в духе времени меркантильный интерес торжествует над безоглядным «рыцарством». При этом простой «бытовой» поступок девушки, заколовшей воротник рубашки ГР собственной булавкой11 и покорившей его своей веселой человечностью, оказывается поистине судьбоносным и «литературным» в высшем смысле – недаром она сравнивается с одной из самых известных романтических героинь: «Кармен сделала очень немного, она только бросила в ленивого солдата цветком. Не более было совершено здесь» (368).
Признаками «судьбоносности» наделен и «типичный андреевский старикан» (367), который в конце концов купил книги у ГР, по-своему «посодействовав» развитию «книжной» фабулы. В сопоставлении с заглавием рассказа и традиционным «крысиным» цветом12 упоминание о Леониде Андрееве13 вызывает четкую ассоциацию с драмой «Жизнь Человека», все действие которой протекает под знаком «незримого» присутствия Некто в сером. Ср. характерные фразы ГР : «Мне показалось: некто , согнувшись, крадется неслышно через дверь с целью схватить» (386); «Полотенце еще шевелилось; здесь отошел некто , может быть, на расстоянии десяти шагов от меня…» (389).
Говоря о явной «книжности» злоключений ГР, нельзя не отметить (пожалуй, даже демонстративное) сходство с рассказом Эдгара По «Колодец и маятник» (повествование в котором также ведется от лица героя). Герой-рассказчик у По тоже едва не проваливается в колодец, и его тоже спасает преждевременное падение на пол: «Я протянул руку и с ужасом обнаружил, что лежу у самого края круглого колодца. <…> Тут я понял, какая мне готовилась судьба, и поздравил себя с тем, что так вовремя споткнулся» [17; 321]. Ср. в «Крысолове»: «Спотыкаясь о книги, я поскользнулся, зашатался и, падая, опрокинул шаткую кипу гроссбухов. <…> Падая на руки, я ушел ими в отвесную пустоту, едва не перекачнувшись сам за край провала, откуда, на невольный мой вскрик, вылетел гул книжной лавины. Я спасся лишь потому, что упал случайно ранее, чем подошел к краю» (388). После этого герой По подвергается нашествию крыс – в отличие от гриновского рассказа, вполне реальных: «Новые полчища хлынули из щели. Они запрудили все мое ложе и сотнями попрыгали прямо на меня. <…> Они теснились, толкались, они толпились на моем теле, все вырастая в числе. Они метались по моему горлу; их холодные пасти тыкались в мои губы; они чуть не удушили меня» [17; 327]. Хотя в данном случае крысы оказываются не столько губителями, сколько спасителями: они перегрызают ремень, которым привязан герой, так что ему удается ускользнуть от смертельного лезвия-маятника.
«Книжные» ассоциации вызывает и образ Крысолова, восходящий вроде бы к известной немецкой легенде. Однако при всей нарочитости отсылки модус связи гриновского рассказа с легендой не так уж очевиден и однозначен. Фольклорный образ Крысолова вовсе не «светел» – скорее, мрачен, если не зловещ, поэтому аналогии с ним порождают двойственное чувство. «Бесспорно, “крысы” и “дети” в гамельнской истории противоположны: “крысы” для жителей города – самое “плохое”, “дети” – самое “лучшее”. <…> Но при всей очевидности оппозиции “крысы” и “дети” в немецкой легенде имеют и нечто общее: и те, и другие в равной степени могут быть зачарованы дудочкой Крысолова и тем caмым погублены» [16; 93–94]. Примечательно, что появление ГР в доме Иенсена хронологически совпадает с уничтожением «главной» крысы; по аналогии с сюжетом легенды можно предположить, что судьба самого ГР воспроизводит вторую ее часть – историю «уловления» детей. Данная проблема, как нам представляется, имеет важнейшее значение, и мы вернемся к ней в финале статьи.
Кроме того, Т. Загвоздкина сопоставляет Иен-сена с Дроссельмейером из сказки «Щелкунчик и мышиный король»: «…образ Крысолова является продолжением гофмановского образа чудака и изобретателя, духовного наставника юного романтического “энтузиаста”» [10; 153]. Кстати, заглавие книги, фрагмент которой читает Иен-сен, – «Кладовая крысиного короля» (397) – похоже на название сказки Гофмана14.
Наконец, идея превращения ГР в «книжного» персонажа существенно подкрепляется образом бумажного царства, в котором он оказывается, попав в банк: «Бумага во всех видах, всех назначений и цветов распространяла здесь вездесущее смешение свое воистину стихийным размахом» (371).
Обилие бумаги подавляет, и в этом «море» ГР подчас ведет себя подобно пловцу: «В одном месте пришлось мне лезть вверх и месить кучи скользких под ногой папок» (372). «Водные» ассоциации достаточно устойчивы – характерно, например, сравнение: «Мне казалось, что я иду по дну аквариума, из которого выпущена вода, или среди льдов» (373).
Важно и сходство «белых разливов» (371) бумаги с половодьем – фактически звучит намек на то, что время действия не соответствует «жизнеподобной» хронологии. Если относиться к словам ГР с полным доверием, следовало бы заключить, что эпизод в банке развертывается спустя примерно четыре месяца (три месяца тифа плюс три недели скитаний (369)) после 22 марта – и, стало быть, относится к июлю . Однако характерно, что колорит здесь отнюдь не «летний». 22 марта ГР отмечал «холод и мокрый снег» (365) – ср. затем описание банка: «На паркетах грязным снегом весенних дорог валялась бумага» (371). Едва избежав падения в проломанный пол, ГР слышит «гул книжной лавины » (388), опять-таки сравнивая бумагу со снегом. Впрочем, однажды он прямо называет сезон – но тут же подчеркивает, что обстановка ему не соответствует: «…по летнему времени было здесь не довольно тепло» (375).
«Водные» мотивы особенно актуальны с учетом народной легенды о гамельнском крысолове. В одном из ее вариантов дети, привлеченные дудочкой, покидают город и тонут в Везере. Именно такая версия положена в основу произведения, которое также откликнулось в гриновском рассказе, – это драма Г. Ибсена «Маленький Эйолф»15; думается, фамилия Иен-сен призвана, в частности, напомнить о норвежском драматурге16. «Главный» (хотя и недолго присутствующий на сцене) персонаж драмы Ибсена – Старуха-крысоловка, воплощение судьбы / смерти; она предлагает помочь всем, у кого «скребет или грызет» [12; 287, 290]. Повинуясь зову ее губной гармоники, мальчик по имени Эй-олф бросается в воду фьорда, «уходя» вслед за старухой, уплывающей на лодке. Подобные реминисценции подкрепляют мысль о том, что, «погружая» ГР в бумажное «море», Грин тем самым соотносит его как с ребенком, так и с крысой.
Интересно, что двуединство «детско-крысиного» образа в ибсеновской драме, равно как и в легенде о гамельнском крысолове, было подчеркнуто не кем иным, как Фрейдом, написавшим в 1909 году статью под примечательным в аспекте нашей темы заглавием «Заметки об одном случае невроза навязчивости (Случай Че-ловека-крысы)»17. Образ ребенка-«крысы» видим и в рассказе «Крысолов»: ср. эпизод, когда ГР, стремящийся спасти от гибели девушку и ее отца, встречает на рассвете «плачущего хорошенького мальчика лет семи», после общения с которым ГР испытывает «чувство укушенного» (394). Никаких явно «крысиных» черт у ребенка-оборотня нет, тем не менее он (как и встреченная затем на улице девушка) «иллюстрирует» слова Эрта Эртруса о том, что крыса способна «изменять свой вид, являясь, как человек… как его полный, хотя и не настоящий образ» (398). При этом действие мальчика, вцепившегося в руку ГР столь крепко, что тот с трудом вырывается (394), символически выражает их «неразрывность»: это своего рода двойник ГР, и борьба с ним («отрыв» от детского и крысиного) также выражает идею инициации.
Присутствующие в образе ГР «крысиные» ассоциации становятся еще более очевидны при анализе изображенного пространства. ГР сравнивает банк с лабиринтом (372) – исследователи закономерно подчеркивают важность этого архетипического образа как традиционного препятствия при посвящении в тайну [10; 147–148], а кроме того, отмечают его символическое значение, интерпретируя сюжет рассказа как «бесконечный ночной путь по лабиринту города, истории, России» [10; 148]. Однако, помимо мотива «лабиринтного» (в узком пространстве со многими поворотами) движения, в рассказе устойчивы образы темного и тесного («подземного») помещения, а также небольшого (несоразмерного субъекту) отверстия, через которое ГР наблюдает или проникает. Приведем примеры.
ГР изначально обитает в подвале (367) и ходит за дровами на чердак, рассматривая небо сквозь «выбитое слуховое окно» (367). Знакомый «лавочник» (сам похожий на респектабельную крысу) открывает ему путь в банк – ведет «к темному углу, откуда вела наверх черная лестница» (370), то есть ГР попадает в банк через черный ход; при этом проводник советует ему выходить всегда с осторожностью и оглядкой – «действительно, на высоте лица в стене около двери чернел вас-ис-дас с разбитым стеклом» (371). В банке ГР выбирает для ночлега «кабинет с одной дверью» (374), то есть «тупиковое» помещение, подобное норе (до этого описывались длиннейшие коридоры и огромные пространства). Далее, счастливо избежав падения в люк (388), ГР протискивается в «узкую боковую дверь… попав в… проход, очень узкий» (389); затем пытается увидеть то, что происходит в зале внизу, через «отверстие в стене, размером не более форточки» (390). Спасаясь от преследователей, «в слепом беге по узкому пространству» (393) в конце концов проникает на чердак сквозь «квадратную дыру в потолке» (393), затем через слуховое окно (393) выбирается на крышу и по водосточной трубе спускается на землю. Наконец, спеша по названному девушкой адресу, перепрыгивает «щель» расходящегося моста (395).
Эти детали подтверждают, что в фабульном пространстве нарушены нормальные пропорции – оно «противоестественно»: либо непомерно огромно (вспомним сравнение банка с Ватиканом (370)), либо уродливо сжато, так что ГР утрачивает привычное, «человеческое» самоощущение и начинает двигаться совершенно в ином стиле, повинуясь не столько рациональным соображениям, сколько инстинкту самосохранения18.
Впрочем, элементы «крысиного» поведения присущи ГР (да и не только ему) еще до начала истории с банком. В принципе, это вполне объяснимо с учетом разрухи и нищеты, на фоне которых совершаются события. Действия ГР мотивированы обычным чувством голода: он ворует дрова, меняет книги на хлеб, мечтает о еде, оказавшись в банке, и т. п. Хотя в сравнении с другими – допустим, с тем же «лавочником», «англичанином с ярославским оттенком» (370) – непрактичный и довольно легкомысленный в отношении собственного благополучия ГР не столь сильно подвержен влиянию инстинктов; в этом одна из важнейших предпосылок того, что «крысиное» начало в конце концов будет им изжито.
В «ониричном» мире гриновского рассказа отнюдь не только интеллигентный ГР проявляет «животные» черты. Ср., например, внешность девушки, встреченной им на рынке, где она тайком от отца торгует книгами, фактически сбывая краденое (пусть и под влиянием все того же инстинкта самосохранения): на ней «теплый серый платок» (видимо, ворсистый), «суконный жакет», а также «теплые перчатки с голыми подушечками посматривающих из дырок пальцев»
-
(36 5). Здесь доминирует «шерстяная» фактура, а основной цвет – серый; даже глаза у девушки «серо-синие» (365). И хотя, как уже говорилось, она вызывает у ГР весьма благородные ассоциации, в сумме возникает сложное сочетание «высокого» и «низкого». Недаром в подсознании ГР (то есть в фабуле) ее образ «распадется» на несколько персонажей – как враждебных, так и дружественных: можно сказать, что все женские образы в рассказе представляют собой «ипостаси» безымянной девушки.
Таковы, прежде всего, два голоса: один звучит в неработающем телефоне, называя забытый ГР адрес (383–384), другой зовет его за собой, чтобы погубить (386–388)19. Кроме того, ГР встречается с двумя «зримыми» женскими персонажами. Во-первых, это «негативный» двойник девушки – оборотень, который на Конногвардейском бульваре20 объясняется ГР в любви (395), видимо, чтобы отвлечь от цели его движения. Во-вторых – двойник «позитивный», даже идеальный; показательно, например, имя, которым наделяется этот женский персонаж: Су-зи21 – уменьшительная форма древнееврейского имени Сусанна22, этимологически «водяная, белая лилия». По-немецки белая лилия называется Wasserrose, поэтому имя Сусанна считается эквивалентом имени Роза. Кстати, в аспекте ассоциаций с Кармен можно отметить, что цветком, который та бросает солдату (по крайней мере, в постановках оперы Ж. Бизе), традиционно является именно роза.
«Крысиными» коннотациями наделены даже такие персонажи, которые прямо аттестованы как «антагонисты» крыс. Ср., например, внешность Иенсена: он «в сером халате» (396), «в плотной шапке седых выстриженных ровным кругом волос, напоминающих чашку желудя. Острый нос, бритые, тонкие, с сложным упрямым выражением губы, яркие, бесцветные глаза и клочки седых бак на розоватом лице, оканчивающемся направленным вперед подбородком» (397). В коридоре банка ГР слышит разговор «человекокрыс» об Освободителе / Избавителе, призванном уничтожить Крысолова (392). Но примечательно, что заглавные буквы двух этих именований – «О» и «И» – как бы повторяются в инициалах самого Крысолова – О. Иенсен. Между прочим, номер телефона на его вывеске – I080I – есть комбинация тех же букв (в латинском написании), зеркально взаимоотражаю-щихся через восьмерку, «знак бесконечности». К тому же, как отмечалось выше, фамилия Иен-сен по «географической» принадлежности ассоциируется с латинским наименованием серой крысы – Rattus norvegicus23.
Имя авторитетного «крысоведа», чью книгу цитирует Иенсен, также содержит «крысиные» коннотации: антропоним Эрт Эртрус выглядит анаграммой Rattus rattus, наименования черной (домашней) крысы, которое в 1758 году дал К. Линней. Именно черную крысу (правда, назы- вая ее «гвинейской») убивает Иенсен, и именно ее аттестует как «Освободителя» (398). Вспоминая заглавие книги Эртруса, данное существо, вероятно, можно считать «Крысиным королем».
Как видим, между «темными» и «светлыми» персонажами рассказа существуют довольно причудливые отношения и взаимопереходы. Это неудивительно, если учитывать, что основные фабульные события разыгрываются во внутреннем мире ГР, в его подсознании. В отличие от инициационного сюжета «Золотой цепи», где юный Санди Пруэль борется с внешним злом и в этой борьбе мужает24, в «Крысолове» возникает образ зла внутреннего , которое герой (вполне зрелого возраста) преодолевает в борьбе с самим собой, выводя в «светлое поле» сознания и повествуя об этом. Подчеркнем еще раз, что гибель крысы-Освободителя в тот самый момент, когда ГР появляется в доме Иенсена, выглядит как событие символическое и знаменует кульминацию процесса «исцеления».
В финале ГР впадает в «дикий, дремучий сон» (399)25. Неординарные эпитеты26, под влиянием их узуального употребления, вызывают аналогии с лесом, например, с тем «сумрачным лесом», который возникает в начале «Божественной комедии» [6; 7]. Образу леса у Грина присуща «функция посредничества между материальным и духовным» [8; 102] – это в целом соответствует логике финала «Крысолова», где герою обещан переход к новому бытию. После хаоса, в котором сон и явь были неразделимы, сон – признак того, что амбивалентность исчезла и восстанавливается нормальная «система координат».
Возвращаясь к параллелям гриновского рассказа и легенды о гамельнском крысолове, мы теперь можем более определенно охарактеризовать суть парадоксальной связи между ними. Анализ приводит к заключению, что ГР в своем лице объединяет по сути всех основных персонажей легенды – крысу, ребенка и крысолова – с соответствующим набором позитивных и негативных коннотаций. В фабульном плане рассказ повествует о событиях фантастических: столкновении с мрачным царством крыс и встрече с благодетельным Крысоловом, избавившим ГР от преследователей. Однако на более глубоком, сюжетном уровне речь идет об изживании «крысиного» и «детского» в самом себе; фигурально выражаясь – о превращении ГР в «крысолова».
Список литературы Исповедь человека-крысы (эволюция героя в рассказе А. Грина «Крысолов»)
- Александр Грин: хроника жизни и творчества. Феодосия; М.: Издательский дом «Коктебель», 2006. 80 с.
- Варламов А. Мистический враг//Литературная газета. 2004. № 18.
- Воспоминания об Александре Грине. Л.: Лениздат, 1972. 608 с.
- Грин А. С. Собр. соч.: В 6 т. М.: Правда, 1980. (Т. 3 -496 с.; Т. 4 -480 с.)
- Грин Н. Н.Воспоминания об Александре Грине. Феодосия; М.: Издательский дом «Коктебель», 2005. 400 с.
- Данте Алигьери. Божественная комедия. М.: Интерпракс, 1992. 624 с.
- Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука, 1989. Т. 5. 576 с.
- Дунаевская И. К. Этико-эстетическая концепция человека и природы в творчестве А. Грина. Рига: Зинантне, 1988. 168 с.
- Жюльен Н. Словарь символов. Челябинск: Урал Л.Т.Д., 1999. 500 с.
- Загвоздкина Т. Е. Романтическая мифологизация в рассказе А. С. Грина «Крысолов»//А. С. Грин: взгляд из ХХ1 века. Киров: Изд-во ВятГГУ, 2005. С. 146-155.
- Званцева Е. П. Традиция сказочного повествования в романе А. С. Грина «Золотая цепь»//Проблема традиций и новаторства в русской и советской прозе и поэзии. Горький: Горьковский пед. ин-т, 1987. С. 41-50.
- Ибсен Г. Собр. соч.: В 4 т. М.: Искусство, 1958. Т. 4. 824 с.
- Иенсен В. Градива: Фантастическое приключение в Помпее. Одесса: Жизнь и душа, 1912. 190 с.
- Ф. Ш. Иенсен В.//Литературная энциклопедия. М.: Изд-во Коммунистической академии, 1930. Т. 4. Стб. 432.
- Нагайцева Е. В. Концептуальная символическая модель: на материале творчества А. С. Грина: Автореф. дисс.. канд. филол. наук. Барнаул: Алтайский государственный университет, 2002. 21 с.
- Неелов Е. М., Лопуха А. О. Рассказ А. С. Грина «Крысолов»: опыт прочтения//Художественный текст: опыты интерпретации. Петрозаводск: Изд-во КГПУ, 2007. С. 87-109.
- По Э.Избранное. М.: Худож. лит-ра, 1984. 704 с.