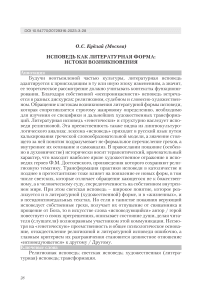Исповедь как литературная форма: истоки возникновения
Автор: Кудлай О.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 3 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
Будучи неотъемлемой частью культуры, литературная исповедь адаптируется к происходящим в ту или иную эпоху изменениям, а значит, ее теоретическое рассмотрение должно учитывать контексты функционирования. Благодаря собственной «всепроникаемости» исповедь встречается в разных дискурсах: религиозном, судебном и словесно-художественном. Обращение к истокам возникновения литературной формы исповеди, которая сопротивляется строгому жанровому определению, необходимо для изучения ее специфики и дальнейших художественных трансформаций. Литературная исповедь «генетически» и структурно наследует исповеди религиозной. Эта преемственность также видна из лингвокультурологического анализа: лексема «исповедь» приходит в русский язык путем калькирования греческой словообразовательной модели, а значение стоящего за ней понятия подразумевает не формальное перечисление грехов, а внутреннее их осознание и самоанализ. В православии покаяние (особенно в духовничестве) исторически носит терапевтический, врачевательный характер, что находит наиболее яркое художественное отражение в исповедях героев Ф.М. Достоевского, произведения которого сохраняют религиозную тематику. Трансформация практики исповеди в католичестве и позднее в протестантизме тоже влияет на появление ее новых форм, в том числе светских, которые отличает обращение кающегося не к божественному, а к человеческому суду, сосредоточенность на собственном внутреннем мире. При этом светская исповедь - широкое понятие, которое реализуется и в литературной (художественной) форме, и в «жизненных», и в псевдоисповедальных текстах. Но если в таинстве покаяния верующий исповедует собственные грехи, получает их отпущение от священника и прощение от Бога, то в искусстве слова «исповедующийся» автор / герой повествует о своих прегрешениях, описывает состояние души, делая читателя (слушателя) полноправным участником этой коммуникации. Несмотря на «генетическую» преемственность и общее психологическое основание, отождествление религиозной и литературной исповеди ошибочно, а главным критерием их разграничения становится ценностное отношение «исповедующегося» к другому / Другому.
Религиозная исповедь, светская исповедь, художественная (литературная) исповедь, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/149143542
IDR: 149143542 | DOI: 10.54770/20729316-2023-3-28
Текст научной статьи Исповедь как литературная форма: истоки возникновения
Religious confession; secular confession; artistic (literary) confession; transformation.
В науке нет единого мнения о дефиниции литературной (художественной) исповеди, поскольку данное явление «сопротивляется» теоретическому осмыслению. Одни исследователи рассматривают покаянные художественные тексты как самостоятельный литературный жанр [Казанский 2009], другие убеждены в том, что художественной исповеди не существует, поскольку символический смысл этого феномена делает невозможной его письменную форму [Михайлова 1997, 9], третьи помещают исповедь в один ряд с «жизненными» текстами (дневниками, мемуарами, письмами)
и, соответственно, отождествляют понятия «исповедь» и «исповедаль-ность» [Ваховская 2001, 320]. Наличие разных научных подходов, противоречащих порой друг другу, объясняется тем, что исповедь представлена в нескольких дискурсах: религиозном, судебном, словесно-художественном. Игнорирование истоков ее возникновения и, как следствие, символического смысла, смешение с псевдоисповедальными текстами может привести к еще большему размыванию критериев для определения собственно литературной «ипостаси» исповеди, сложное и противоречивое происхождение которой, в свою очередь, необходимо изучать в становлении [Казанский 2009, 73].
Обратимся в этой связи к лингвокультурологическому аспекту рассматриваемого нами феномена. Вопреки расхожей точке зрения, слово «исповедь» возникает впервые не в греческом, а в древнееврейском языке: «виддуй» – от глагола «вида» («признавать», «проверять», «убеждаться в правильности»). Глагольная форма получает распространение в Библии (прежде всего в Пятикнижии). В Септуагинте слово «виддуй» представлено в древнегреческом переводе как «ἐξομολογεῖσθαι» («exomologēsis» – покаяние, признание). В латинском переводе Священного Писания, датируемом IV–V вв. и известном как «Вульгата», аналогом слова «виддуй» выступает «сonfessione» (признание, исповедь) [Луцевич 2016, 227–228]. Впоследствии латинский корень заимствуют другие европейские языки. Путем калькирования греческой словообразовательной модели слово «исповедь» приходит и в русский язык (самые ранние рукописные памятники датируются XI в. [Семенов 2003, 191]): как «exomologēsis» («покаяние, признание») образовано от глагола «exomologeō» («признаю, исповедую»), так «исповедь» – от «поведать», «исповедать» [Шанский, Боброва 1994, 113].
Общая словообразовательная модель, смежные значения, а также близкие временные отрезки фиксации «исповеди» в рукописных памятниках позволяют говорить о «генетической» основе древнееврейского «виддуй» (т. е. библейского канона) по отношению к исповеди в христианских странах. Однако «виддуй» характеризуется формальным перечислением грехов в алфавитном порядке [Евр. энцикл., III, 1909, стлб. 524], поэтому преемственность выражается лишь во внешних функциях ритуала. Между тем А.И. Алмазов, один из авторитетных исследователей исповеди в Восточной церкви, подчеркивает, что в Священном Писании слово «ἐξομολογεῖν» («исповедовать», «признавать») означает также внутреннее проговаривание, осознание грехов, «обременяющих совесть кающегося» [Алмазов 1894, I, 19]. По мнению историка, на это указывает употребление глагола «ὁμολογεῖν» (в русской модели – «поведать» о грехах) с предлогом «ἑξ» («с») (в русском варианте – «из»), который позднее «срастается» с глаголом, что дает дополнительный оттенок значения: «исповедь с особенным желанием, от всего сердца» [Алмазов 1894, I, 19]. Такая исповедь не может носить исключительно формальный характер и выполнять только ритуальную функцию. Этим же объясняется «интенционный настрой», который присущ религиозной христианской исповеди: «…сакраменталь- ный способ для действительного очищения от грехов есть установление христианское» [Алмазов 1894, II, 321]. И хотя четкого указания на таинство исповеди в Священном Писании нет, теологи считают обрядовым «установлением таинства покаяния» следующие слова Иисуса Христа к Апостолам: «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся» (Иоан. 20:20–23). Эти слова сопровождает «дуновение», символизирующее передачу «Святого Духа», принятие которого Иисус завещает ученикам. Соответственно, христианская традиция наделяет исповедь признаком божественного учреждения, что определяет ее сакральный характер и, следовательно, важность откровенности и искреннего сокрушения в грехах перед лицом Бога.
Если в первые века существования христианства исповедь не была регламентированной и не имела четкой практики проведения (встречались и частная исповедь перед священником, и общая публичная исповедь перед общиной), то после упразднения в Константинополе патриархом Нектарием должности духовника, ответственного за публичное покаяние (конец IV в.) [Пчелинцев, Андреев 2014, 27], можно говорить о распространении и регулярном совершении исповеди индивидуальной.
В Русской православной церкви сформировались разные типы исповеди: исповедание грехов священнику, духовничество (исповедник – старец, не имеющий хиротонии; характерно прежде всего для монашеской среды), харизматическая исповедь (публичное оглашение грехов многими кающимися) [Нефедов 1995, 38]. Покаяние здесь носит «врачевательный», «духовно-терапевтический характер» [Зассе 2012, 21], что находит наиболее яркое художественное отражение в исповедях героев Ф.М. Достоевского (см., например, главу «У Тихона» в романе «Бесы» или проповедь старца Зосимы в «Братьях Карамазовых»); в то время как в римско-католической церкви исповедник предстает перед кающимся как судья. Это различие находит и ритуальное воплощение: в русской православной традиции священник «покрывает голову исповедующегося епитрахилью и произносит молитву отпущения грехов», а в католической – «священник дарует прощение, замещая Бога» [Уваров 1998, 46].
Постепенному «омирщению» исповеди способствовало протестантское осмысление данного явления: исповедь – не сакральный ритуал, а дисциплинарное действие – внутреннее покаяние перед Богом [Ткаченко 2011, XXVII, 633]. Протестантизм не признает право священника на отпущение грехов и назначение епитимьи, поэтому исповедь как таинство в нем упразднена. Священнику отводится роль не посредника в общении с Богом, как в католичестве и православии, а духовного наставника, который направляет кающегося и помогает ему.
Многочисленные трансформации религиозной христианской исповеди свидетельствуют о неустойчивом характере феномена. Его неоднородность, с одной стороны, мешает унификации, но с другой – демонстрирует гибкость и предпосылки для возникновения светской исповеди, а затем и художественной. В иных основных религиях мира исповедь либо не получила столь широкого распространения, либо не приобрела продуктив- ного «церемониального» значения, которое привело бы к формированию исповеди литературной. Сам характер христианской исповеди сделал возможным появление особого речевого жанра, вышедшего впоследствии за рамки религиозного дискурса.
Основополагающий в этом отношении текст «Исповеди» Бл. Августина, созданный около 397–398 гг. н.э., представляет синтез разных элементов, что усложняет его жанровое определение. «Исповедь» подразумевает не только обращение к Богу, но и раскрытие сокровенных чувств, признания как перед священником, так и перед читателем (публикой). Однако показательна выбранная автором форма изложения – подробное описание внутреннего мира, своих чувств и переживаний (общий признак психологизма, автобиографизма, светской исповеди) и вместе с тем самобичевание, обращение к Богу (черта религиозной исповеди): «Страсти кипели во мне, несчастном; увлеченный их бурным потоком, я оставил Тебя, я преступил все законы Твои и не ушел от бича Твоего; а кто из смертных ушел? Ты всегда был рядом, милосердный в жестокости, посыпавший горьким-горьким разочарованием все недозволенные радости мои, – да ищу радость, не знающую разочарования. Только в Тебе и мог бы я найти ее» [Августин 2013, 22].
«Смешение» исповедальных жанров в рамках одного произведения размывает критерии определения литературной исповеди. В результате приходится обсуждать не только содержательные особенности покаянных художественных текстов, но и формальные принципы их построения. Методологически продуктивной ввиду этого оказывается эстетика словесного творчества, разрабатывавшаяся М.М. Бахтиным, согласно которому содержание художественного произведения – «не идея или комплекс идей, а совокупность ценностей, соотнесенных друг с другом с помощью определенной организации материала» [Тамарченко 2011, 62]. Развивая теорию диалогического слова, проблему отношения автора и героя в эстетической деятельности, Бахтин обратился к феномену исповеди: поступок, или самоотчет-исповедь, представляет собой «сведения о том, как субъект может выразить на языке свое самопонимание перед Другим» [Бахтин 1986, 124]. Одно из условий существования самоотчета – совпадение автора и героя, вследствие чего автор исповеди не может себя завершить: «его определенность не входит в мотивацию поступка» [Бахтин 1986, 129]. Основная цель поступка – высказывание «во всей его чистоте, без привлечения трансгредиентных моментов и ценностей, чуждых ему самому [автору исповеди]» [Бахтин 1986, 130]. Принципиальная незавершенность самоотчета-исповеди необходима, поскольку этический поступок «борется» за чистоту сознания кающегося. Это сближает самоотчет, описанный Бахтиным, с исповедью религиозной. «Очищение» самосознания и исключение другого в исповеди необходимы для того, чтобы сделать возможным беспрепятственный диалог с Нададресатом, или Богом.
В рамках бахтинской концепции самоотчет-исповедь не относится к художественной литературе: в нем невозможен сюжет как эстетически завершенная категория и предметный мир «как эстетически значимое окружение» (пейзаж, обстановка, быт и т.д.) [Бахтин 1986, 136]. Главная функция самоотчета – назидательная. По нашему мнению, он ближе всего к письменно зафиксированной религиозной исповеди. Отдельные ее черты встречаем у Августина: «Что могло бы укрыться во мне от Тебя, Господи, даже если бы я и не пожелал исповедаться Тебе, пред очами Которого “все обнажено и открыто” (Евр. IV, 13)? Я только бы скрыл Тебя от себя, сам же от Тебя бы не скрылся» [Августин 2013, 141]. Вместе с тем имитации формы и символического содержания церковной исповеди недостаточно для возникновения эстетически завершенного художественного произведения: такая исповедь может существовать в письменном виде как «жизненный» текст. «Исповедь» Августина, несмотря на явное смысловое сближение с религиозной исповедью, обладает признаками исповеди литературной: ей присущи адресованность читателю, самоанализ, психологизм, акцент на мыслях, а не на поступках. Другими словами, текст Августина – переходная форма, которая получит дальнейшее развитие в художественной словесности.
Светскую исповедь отличает обращение кающегося не к божественному, а к человеческому суду, сосредоточенность на собственном внутреннем мире: «Текст [светской] исповеди возникает только тогда, когда необходимость покаяния перед Богом выливается в покаяние перед самим собой» [Уваров 1998, 73]. В европейской традиции начиная с «Исповеди» (1765–1770) Ж.-Ж. Руссо к литературным образцам такого рода произведений относят «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» (1821) Т. Квинси, «Исповедь» (1894) П. Верлена, «De Profundis» (1897) О. Уайлда и др. Сразу отметим, что светская исповедь – широкое понятие, которое включает в себя литературную (художественную) исповедь. Вместе с тем она реализуется в «жизненных» и псевдоисповедальных текстах. Так, в судебном дискурсе возникает форма исповеди-признания, в том числе – признания преступников и «политические» исповеди («Исповедь» М.А. Бакунина, прошение П.А. Вяземского к Николаю I и т.п.), то есть исповеди людей, «поставивших себя в положение резкого противопоставления властям» [Казанский 2009, 74]. При этом нельзя сказать, что признания в суде наследуют одной лишь христианской исповеди. Еще в Античности распространение получили апологии (признания, оправдательные речи) [Казанский 2009, 74], которые содержали отдельные элементы исповеди, но не выражали раскаяние. Яркий пример – представленная Платоном «Апология Сократа» (IV в. До н.э.). Судебные речи и признательные показания противопоставлены истинной исповеди, свободной от принуждения. В их ряду – «псевдоисповедальные» тексты периода сталинских репрессий, «политически мотивированная практика исправления посредством критики и самокритики» [Зассе 2012, 17], «саморазоблачение», которое приобретало обязательный характер на допросах и существовало в двух основных формах: покаяние перед органами следствия и публичное признание перед судом. Творческое осмысление этой практики дано в романе Н.В. Нарокова «Мнимые величины» (псевдопризнание Варискина).
Художественная исповедь, в свою очередь, структурно наследует исповеди религиозной. Если в таинстве покаяния верующий исповедует собственные грехи, получает их отпущение от священника и прощение от Бога, то в искусстве слова «исповедующийся» автор / герой повествует о своих прегрешениях, описывает состояние души, делая читателя (слушателя) полноправным участником этой коммуникации. Сознание другого завершает этическую исповедь и создает литературное произведение, поскольку «изнутри себя самое жизнь не может породить эстетически значимой формы, не выходя за свои пределы, не перестав быть самой собою» [Бахтин 1986, 68]. Процесс эстетизации исповеди совершается в тот момент, когда читатель «привносит ценностную позицию вненаходимости субъекту самоотчета-исповеди», «созерцатель начинает тяготеть к авторству, субъект самоотчета-исповеди становится героем» [Бахтин 1986, 137].
Вследствие сказанного, полагает М.В. Михайлова, церковная и литературная исповеди «противоположны по своему внутреннему смыслу»: религиозная исповедь «стремится» к молчанию, а литературная – к полноте слова; «присутствие другого с его <…> познавательной, этической и эстетической активностью неизбежно разрушает исповедь как событие тайного, уединенного предстояния Богу» [Михайлова 1997, 9, 11]. В результате исследователь отрицает сам факт существования литературной исповеди. К менее радикальному выводу приходит С. Зассе, утверждая, что исповедь в литературе «представляет собой некое посягательство, то есть прегрешение против уставов исповедования», «превращает вербализацию греха между кающимся и Богом в неконтролируемый акт рецепции» [Зассе 2012, 60]. Отсюда – именование литературных исповедей «антиисповедями».
Не отрицая литературную исповедь как художественное явление, констатируем, что, в отличие от религиозной (устной) формы, она невозможна без «оглядки» на ценностную позицию другого (читателя) и, нарушая сакральный смысл христианского таинства, обладает собственной спецификой. Это поистине «изнанка», своеобразный «негатив» исповеди религиозной. В ней может отсутствовать искреннее раскаяние либо приобретается иронический / человекоборческий смысл. Так, Руссо «обытов-ляет исповедные ценности, что привело к превращению исповеди к эстетически самоценной повествовательной игре» [Исупов 1997, 8]. Главная цель автора – не исповедание грехов, не утверждение в Боге, а раскрытие личности, ее анализ, доказательство собственной уникальности: «Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь» [Руссо 1961, 9–10]. Обращение к форме исповеди работает здесь как литературный прием, который позволяет Руссо откровенно «беседовать» с читателем и, в отличие от Августина, заниматься не столько самоосуждением, сколько самооправданием в стремлении исследовать свою душу и понять собственные поступки.
Психологизм, эксцентричность и богоборческие мотивы – свидетельство эстетических, а не этических задач автора. Руссо, таким образом, еще дальше, чем Августин, отходит от церковного канона и закладывает традицию литературной исповеди. В художественной словесности появление этой формы – «свидетельство высокой оценки человеческой личности, осознания ее сложности и уникальности» [Кричевцова 1989, 298].
Как видно, несмотря на «генетическую» преемственность и общее психологическое основание, отождествление религиозной и литературной исповеди ошибочно, а главным критерием их разграничения становится отношение «исповедующегося» к другому / Другому. Художественная исповедь закономерно заимствует у церковного покаяния принципы виновности и откровенности, раскрывая не столько прегрешения, сколько мотивы и состояния, которые предшествовали тем или иным поступкам, а также раздумьям, ибо основанием для исповеди служат как действия, так и помыслы. В то же время она может либо наследовать христианской традиции в своем символическом смысле, либо вовсе исключать религиозную тему. Однако вопрос о жанровом статусе литературной исповеди и ее конституирующих признаках по-прежнему остается дискуссионным и требует отдельного рассмотрения.
Список литературы Исповедь как литературная форма: истоки возникновения
- Алмазов А.И. Тайная исповедь в Православной восточной Церкви. Т. I–III. Одесса: Типолитография штаба одесского военного округа, 1894. 1326 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
- Бл. Августин. Исповедь. СПб.: Наука, 2013. 376 с.
- Ваховская А.М. Исповедь // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. С. 320–321.
- Еврейская энциклопедия. Т. 3. СПб.: Издательство Брокгауза и Ефрона, [1909]. 490 с.
- Зассе С. Яд в ухо: исповедь и признание в русской литературе. М.: РГГУ, 2012. 400 с.
- Исупов К.Г. Исповедь: к определению термина // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова: Материалы международной конференции / Отв. ред. М.С. Уваров. СПб.: Институт человека РАН, 1997. С. 7–8.
- Казанский Н.Н. Исповедь как литературный жанр // Вестник истории, литературы, искусства. Т. 6. М.: Собрание, 2009. С. 73–90.
- Кричевцова Н.Е. Исповедальный жанр в европейской культуре и христианская концепция человека // Отношение человека к иррациональному / Отв. ред. Д.В. Пивоваров. Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1989. С. 289–310.
- Луцевич Л.Ф. Исповедь: смысловое содержание понятия (в аспекте размышлений A.В. Mихайлова о ключевых словах культуры) // Studia Rossica Gedanensia. 2016. № 3. С. 223–234.
- Михайлова М.В. Молчание и слово (таинство покаяния и литературная исповедь) // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова: Материалы международной конференции / Отв. ред. М.С. Уваров. СПб.: Институт человека РАН, 1997. С. 9–14.
- Нефедов Г. Таинства и обряды православной церкви. М.: Православ. богояв. братство, 1995. 318 с.
- Пчелинцев А.В., Андреев К.М. Религиозная тайна. М.: ИД «Юриспруденция», 2014. 64 с.
- Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 3. М.: Гослитиздат, 1961. 727 с.
- Семенов А.В. Этимологический словарь русского языка. М.: ЮНВЕС, 2003. 704 с.
- Тамарченко Н.Д. «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтина и русская философско-филологическая традиция М.: Изд-во Кулагиной, 2011. 400 с.
- Ткаченко А.А. Исповедь // Православная энциклопедия. Т. 27. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2011. С. 624-634.
- Уваров М.С. Архитектоника исповедального слова. СПб.: Алетейя, 1998. 243 с.
- Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. М.: Прозерпина: ТОО «Школа», 1994. 398 с.