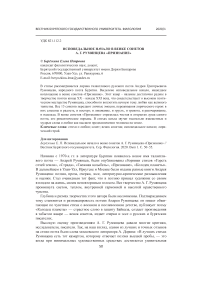Исповедальное начало в венке сонетов А. Г. Румянцева «Признание»
Автор: Берзкина Елена Петровна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается лирика талантливого русского поэта Андрея Григорьевича Румянцева, народного поэта Бурятии. Выделено исповедальное начало, нашедшее воплощение в венке сонетов «Признание». Этот жанр - явление достаточно редкое в творчестве поэтов конца ХХ - начала XXI века, что свидетельствует о высоком поэтическом мастерстве Румянцева, способного воплотить вечную тему любви как великого таинства. Все 15 сонетов передают личные эмоции, переживания лирического героя: в них слышны и радость, и восторг, и ликование, и грусть, и тревога, и разочарование, и надежда. В венке сонетов «Признание» отразилась чистая и открытая душа самого поэта, его романтические порывы. В стихах цикла звучат тщательно взвешенные и мудрые слова о любви как высшем предназначении человека на земле.
Стихи о любви, сонет, венок сонетов, исповедальное начало, лирический герой
Короткий адрес: https://sciup.org/148316607
IDR: 148316607 | УДК: 821.112.2
Текст научной статьи Исповедальное начало в венке сонетов А. Г. Румянцева «Признание»
Берёзкина Е. П. Исповедальное начало в венке сонетов А. Г. Румянцева «Признание» // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 1. С. 50–55.
Начиная с 1970-х гг. в литературе Бурятии появилось новое имя талантливого поэта — Андрей Румянцев, были опубликованы сборники стихов «Горсть отчей земли», «Страда», «Таежная колыбель», «Признание», «Колодец планеты». В дальнейшем в Улан-Удэ, Иркутске и Москве были изданы разные книги Андрея Румянцева: поэзия, проза, очерки, эссе, литературно-критические размышления и оценки. Стал очевидным тот факт, что в поэзию пришел художник со своим взглядом на жизнь, своим неповторимым голосом. Все творчество А. Г. Румянцева проникнута светом, теплом, внутренней гармонией и высотой нравственного чувства.
Глубина и размах творчества этого автора были несомненны. Подтверждением тому становится и разножанровость поэзии Андрея Румянцева: он пишет обжигающие по чувствам стихи о военном и послевоенном детстве, публикует поэму «Колодец планеты» — страстное слово в защиту Байкала, создает произведения в забытом жанре — венок сонетов, издает очерки и эссе о русских и бурятских писателях.
Высокую оценку произведениям А. Г. Румянцева давали многие критики, исследователи, писатели. Так, на наш взгляд, одним из лучших и точных отзывов на стихи поэта были слова московского литератора А. Дорина: «В лучших стихах Румянцева есть тот камертон, которому отвечает поэзия высшей пробы, — это когда при минимальных художественных средствах достигается удивительная сила чувства, переживания, когда глубина мысли гармонично сочетается с художественностью образа…» [2, с. 101]. Подлинно национальным поэтом назвала Румянцева С. С. Имихелова за продолжение есенинской традиции [3], за «прикосновение к русской тайне, загадке русской души» [6, с. 279].
«Мои стихи — моя прямая речь», — признавался Румянцев, и знакомство с его личностью, отраженной в творчестве, представляет значительный интерес. В лирике Румянцева с ее большим тематическим диапазоном можно обнаружить светлые стихотворения, посвященные прекрасному и вечному чувству любви. Это венок сонетов «Признание». «И тут мы можем говорить об исповедальности творчества поэта, — отмечает С. С. Имихелова, — черте, присущей талантам подлинным и ярким. В любовной лирике Андрея Румянцева это особенно привлекает» [7, с. 6].
Поэтическая исповедь как «искреннее и полное сознание, объяснение убеждений своих, помыслов и дел» (В. И. Даль) — основная особенность лирики Румянцева. Установка поэта на передачу сокровенно-личных впечатлений, переживаний, эмоций приводит к предельной искренности его лирического героя, к откровенному погружению в свой внутренний мир, является отражением его внутреннего слуха и зрения. Эта черта лирической поэзии требует от субъекта отказаться от своеволия, «от своей завышенной самооценки или самоубийственного террора совести» [5, с. 17]. Поэтическая исповедь, кроме того, рассчитана на эмоционально настроенного читателя, способного прочувствовать лирического героя и разделить его мысли.
Поскольку исповедальное начало представлено в особой форме стихотворений А. Румянцева, то обратимся к жанровому своеобразию сонета и венка сонетов, которые требуют строгого следования канонам. А. П. Квятковский пишет, что венок сонетов является формой поэмы, состоит из пятнадцати сонетов и подчиняется определенным правилам. «Тематическим и композиционным ключом (основой) является магистральный сонет (или магистрал), замыкающий собой поэму; этот, пятнадцатый по счету, сонет пишется раньше других, в нем заключается замысел всего» [4].
Поэту при написании венка сонетов необходимо следовать следующим правилам. Во-первых, обращает на себя внимание построение венка. Первый сонет начинается первой строкой магистрала и заканчивается второй его строкой; первый стих второго сонета повторяет последнюю строку первого сонета и заканчивается этот сонет третьей строкой магистрала. И так далее — до последнего, 14-го сонета, который начинается последней строкой магистрала и кончается первой его строкой, замыкая собой кольцо строк. Таким образом, 15-й, магистральный сонет состоит из строк, последовательно прошедших через все14 сонетов.
Во-вторых, сонеты, входящие в венок, должны соответствовать всем основным условиям, по которым они пишутся, поскольку сонет — это тоже твердая форма. В-третьих, все сонеты, которые его составляют, должны иметь одну систему рифмовки (иметь одну и ту же форму сонета) [4].
Открывается венок сонетов А. Румянцева стихотворением «Пишу я не историю любви…». Для русской поэзии случай не новый – начинать разговор о любви отрицанием, так было у М. Ю. Лермонтова («Нет, не тебя так пылко я люблю…»), у Н. А. Некрасова («Я не люблю иронии твоей»), но у Румянцева за отрицанием идет мощное утверждение: «Я позднее признанье обращаю / К тебе, кого опять благословляю, / Кого и сам прошу: “Благослови!”» [8, c. 185]. Так мудро поэт начинает свой «роман» о любви, продиктованный не страстью и пылкостью чувства, а глубиной духовной слитности двух сердец. Наиболее важными становятся третья и четвертая строфы, в которых поэт признается: «Тебя опять любимой назову. / С тобою не во сне, а наяву / Опять пройду пути земной юдоли, / Чтобы среди моих негромких строк / Ты прочитала не пустой упрек, / А сроки благодарности и боли» [8, с. 185]. Чувства лирического героя были проверены многими годами совместной жизни, перенесенными испытаниями судьбы, боли и страданий, сохраненной годами внутренней теплоты. Можно предположить, что венок сонетов посвящен жене Андрея Григорьевича — Галине, но имя ее нигде не названо, поэтому не будет ошибкой сказать, что цикл посвящен любимой женщине, женщине, способной быть единственной путеводной звездой для мужчины.
Во втором сонете конкретизируется время: «А строки благодарности и боли — / Они со мною через двадцать лет». Ретроспективно лирически герой указывает на многие пройденные препятствия: «Все было: тучи застилали свет, / И ревность подсыпала в раны соли. / Крушение надежд лишало воли, / Обида оставляла черный след». Однако любящие люди смогли преодолеть трудности благодаря глубине своего чувства: «Но два крыла нас унесли от бед». Безусловно, это были образные крылья любви, которая придавала силы, окрашивала путь поэта: «Повсюду светят мне глаза твои» [8, с. 186].
О духовном родстве, слитности душ пишет поэт в третьем сонете: «Повсюду светят мне глаза твои, //Твое лицо мне видится повсюд... Ты всюду...». Благодаря повторам «твои — твои — ты», «повсюду — повсюду — всюду» происходит усиление и укрупнение героини стиха: вначале глаза, затем лицо, и наконец, весь облик. Различные «ты» и «я» в финальных строках объединяются в слитное «мы»: «Окружены веселою толпой. / Мы все равно наедине с тобой, / Как две звезды в ночном пустынном поле» [8, с. 187]. Сравнение со звездами позволяет вывести возлюбленных из тесного интимного круга в большой внешний мир.
В четвертом сонете лирический герой задается вопросом: что же держит двух людей вместе на земле? Ответ очевиден: «Любовь двух душ… Всесильна власть ее». Всеобъемлющее начало любви автор сравнивает с такими понятиями: «Она, как чувство Родины, как братство. / На всю большую жизнь она твое / Бесценное и вечное богатство» [6, с. 188]. Вновь благодаря сравнениям «как чувство Родины, как братство» происходит расширение диапазона любовного чувства от частного, личного к общему национальному переживанию.
Пятый сонет позволяет читателям окунуться в прошлое: в нем слышится признание в любви, делается объявление о свадьбе, звучит очень важное для самого поэта благословение Байкала. О роли Байкала как великого праотца Румянцев писал в других стихотворениях, например, в стихотворении «Байкалу» поэт изображена взаимосвязь человека, рожденного и выросшего на берегу этого священного озера-моря в окружении высших сакральных сил природы. Именно это обстоятельство укрепляет веру лирического героя в нескончаемость своего любовного чувства: «Люблю тебя и верую, что это / Останется со мною навсегда» [8, с. 189].
В следующем сонете получают развитие тема невзгод и бед, которые выпадают на долю всех влюбленных людей. Только вера в свои истинные чувства позволяет преодолевать все препятствия: «Любовь восстанет из огня и пепла, / Из долгого глухого забытья. / Душе, что вдруг от ревности ослепла, / Она прикажет: зряча будь, как я» [8, с. 190]. Настоящие чувства всегда будут жить в любящем сердце, и все смогут преодолеть.
Любовь способна пронизывать не только земное, но и космическое пространство. Этому посвящен седьмой сонет цикла. Человек, любящий и любимый не только все может совершить, открыть, пройти до конца свой путь, но и, привязанный незримыми нитями к любимой женщине, способен не разорвать прочность этой связи. Эту связь поэт называет «сладостной неволей», которая не тяготит человека и в то же время держит его, не позволяет упасть и разбиться [8, с. 191].
Восьмой сонет начинается и завершается риторическими вопросами, содержащими антитезу: «За что такое счастье мне дано? / Наградою за все невзгоды, что ли?» — «Хожу, потерян: что мне эти сосны? Что облака и легкая река?». Лирический герой передает перепад настроения от счастья, что есть возлюбленная, от ликования, наслаждения им до угнетения духа, когда нет возможности быть вместе, когда разлучен с любимой женщиной. Окружающий мир теряет свои краски: «Я знаю, как меняется округа, / Когда опять не видим мы друг друга, / Когда ты от меня так далека. / И небеса темны, и воды сонны» [8, с. 192].
В девятом сонете автор вновь указывает на то, что стихи о любви написаны не в первые дни влюбленности, не в медовый месяц после свадьбы, а через двадцать лет. Лирический герой пронес любовь через десятилетия, сумев сохранить свежесть чувства: «Опять в моей руке твоя рука, / Как двадцать лет назад байкальским летом, / И жизнь ясна. И ноша мне легка. / И нежность к людям в сердце обогретом». Тема любви находит здесь свое продолжение в необходимости служения людям: «Служить добру зовет меня любовь, / И совесть строго спрашивает вновь» [8, с. 193]. Источник радости и счастья делает человека способным осчастливить других людей, подарить лучшее в себе всему миру. Любовь становится силой, способной изменить окружающую жизнь, стать ее опорой.
А в следующем сонете происходит возвращение лирического героя из внешнего пространства большого мира к возлюбленной: «Мне ни земли, ни синевы не надо / Без слов твоих, и рук твоих, и взгляда!». Эта тема находит свое продолжение в одиннадцатом сонете. «Иной напев, иная красота / У ветра, у весеннего листа, / Когда влюблен, когда представить легче / Мир без цветов, без трав, / Идущих в рост, / Чем без твоей улыбки, чистой, вешней, / Без облика, который мил и прост» [8, с. 194, 195].
Двенадцатый сонет становится неким «мостом», соединяющим средневекового итальянского поэта Данте, создавшего неповторимые сонеты о своей возлю- бленной Беатриче, и современным поэтом: «Но строки Данте — тоже прочный мост, / Над бездной лет соединившей кручи. / Мы опыт сердца черпаем в стихах, / Он нужен нам в земной дороге этой…» [8, с. 196]. Ощущения любящего человека не изменились за семь веков, глубина чувства не ослабела, поэтому, обратившись к жанру сонета, автор упоминает своего непревзойденного предшественника, отдавая дань уважения и признательности.
В тринадцатом сонете лирический герой обращается еще к одному важному учителю по жизни — своему отцу. Впервые мы слышим здесь обращение: «Любимая!», звучащее по-есенински просто. В финале сонета переданы слова отца, обращенные к матери: «Хороший день. В руках избыток сил, / А нет тебя — душа всему не рада…» [8, с. 197]. Именно отец — сельский труженик сумел просто и мудро выразить то, что его сын пытается понять и сформулировать в своей любви. И ключевыми фигурами, наряду с отцом – Байкалом, отцом мировой любовной традиции Данте, на которые ориентируется поэт Румянцев, становится и его отец — как пример и образец для сына, как сыновний свидетель и судья. Они равны по силе своего воздействия на поэта, и его лирический герой способен именно с такой же силой любить женщину и весь окружающий мир.
Четырнадцатый сонет передает просьбу лирического героя, его сокровенное желание: «Я только бы хотел, чтоб до конца, / До черного, нетающего снега, / Была ты рядом – светом у лица, / Необходимей воздуха и хлеба» [8, с. 198]. Поэт пишет о том духовном единстве с любимой, которое можно сравнить с самыми важными, конечными ценностями жизни, необходимыми человеку до того предела, метафорично названного «черным нетающим снегом».
Заключительный пятнадцатый сонет — магистрал — собирает вместе все переживания лирического героя, все переливы его чувств, светлых, вдохновенных, нежных. В нем звучат и восторг, и радость, и ликование, и тревога, и надежда. После исповеди лирический герой ощущает душевное успокоение. Образ любимой женщины, близость к ней продолжает вдохновлять, ведет к новым творческим свершениям.
Как исключительный мастер поэт сумел выдержать все правила и предписания жанра венка сонетов: внешнее построение, внутреннюю композицию каждой части и целого, и законченную мысль в каждом сонете, особенно в финальном. Исповедальное начало венка советов позволило ощутить искренность лирического героя, сокровенность его признаний, открытость выражения мыслей и чувств.
В венок сонетов А. Румянцева вложена вся его душа, все вдохновение, самые чистые и возвышенные переживания. Это стихи о любви, чувстве вечном, побеждающем все временные границы. Поэт предстает в них как настоящий романтик, преклоняющийся перед своей дамой сердца, склоненный перед ней на долгие годы, ощущающий себя в «сладостном плену». Образ возлюбленной, как и полагается в сонете, изображен только намеками, остается загадочным и непостижимым. Но без реального источника любви — земной женщины, ставшей своей Беатриче для поэта, написать такие стихи было бы невозможно. Исповедальный венок сонетов в поэзии А. Румянцева — явление исключительное, но именно в нем представлено смысловое ядро автобиографических мотивов, пронизывающих все его творчество.
Список литературы Исповедальное начало в венке сонетов А. Г. Румянцева «Признание»
- Гудкова С. П. Крупные жанровые формы в русской поэзии второй половины 19802000-х годов: автореф.. дис. д-ра филол. наук. Саранск, 2011. 41 с.
- Дорин А. Когда нет расстоянья.. // Поле жизни, поле поэзии. О творчестве народного поэта Бурятии Андрея Румянцева. Литературные портреты. Статьи. Рецензии. Отзывы читателей. Иркутск, 2010. 207 с.
- Имихелова С. С. Русская классическая традиция в поэзии Андрея Румянцева: (к 75-летию народного поэта Бурятии) // Вестник Бурят. гос. ун-та. 2013. № 10. С. 127-132.
- Квятковский А. П. Венок сонетов. Поэтический словарь [Электронный ресурс]. URL: http://feb-web.ru/feb/kPS/kPS-Abc/kps/kps-2751.htm (дата обращения: 23.01.2020).
- Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. и др. Теоретическая модель жанра: практикум по жанровому анализу литературного произведения. Екатеринбург, 1998. С. 16-26.
- Румянцев А. Г. Взывает время к доброте. Стихотворения. Венок сонетов. Поэма. Улан-Удэ, 2015. 288 с.
- Румянцев А. Г. Избранное / вступ. ст. С. С. Имихеловой. Иркутск, 2019. 320 с.
- Румянцев А. Г. От сосны до звезды: Стихотворения. Венок сонетов. Поэма / предисл. К. Балкова. Иркутск, 2017. 266 с.