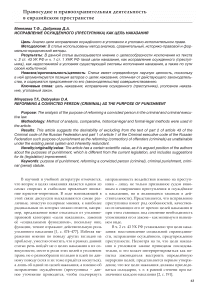Исправление осуждённого (преступника) как цель наказания
Автор: Минязева Татьяна Федоровна, Добряков Денис Андреевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Правосудие и правоохранительная деятельность в Евразийском пространстве
Статья в выпуске: 2 (21), 2016 года.
Бесплатный доступ
Цель: Анализ цели исправления осуждённого в уголовном и уголовно-исполнительном праве. Методология: В статье использованы метод анализа, сравнительный, историко-правовой и формально-юридический методы. Результаты: В данной статье высказывается мнение о целесообразности исключения из текста ч. 2 ст. 43 УК РФ и ч. 1 ст. 1 УИК РФ такой цели наказания, как исправление осужденного (преступника), как недостижимой в условиях существующей системы исполнения наказания, а также по сути своей избыточной. Новизна/оригинальность/ценность: Статья имеет определённую научную ценность, поскольку в ней аргументируется позиция авторов о целях наказания, отличная от действующего законодательства, и содержатся предложения по его (законодательства) совершенствованию.
Цель наказания, исправление осужденного (преступника), уголовное наказание, уголовный закон
Короткий адрес: https://sciup.org/14027901
IDR: 14027901
Текст научной статьи Исправление осуждённого (преступника) как цель наказания
Results : This article suggests the desirability of excluding from the text of part 2 of article 43 of the Criminal code of the Russian Federation and part 1 of article 1 of the Criminal executive code of the Russian Federation such purpose of punishment as the reforming (correction) of offenders (criminals) as unattainable under the existing penal system and inherently redundant.
Novelty/originality/value : The article has a certain scientific value, as it is argued position of the authors about the purposes of punishment, which is different from the current legislation, and includes suggestions for its (legislation) improvement.
В научной и учебной литературе отмечается, что вопрос о целях наказания является одним из самых спорных и стабильно привлекает внимание юристов-теоретиков. В ходе возникающей в этой связи дискуссии высказываются самые различные, зачастую полярные мнения, к наиболее радикальным из которых можно отнести, например, предложение вовсе отказаться от уголовноправовой категории «цели наказания», заменив её «социальными функциями», поскольку они, функции, точнее отражают действительную роль уголовного наказания [1, с. 474–477]. Избегая выражения мнения по поводу других взглядов на проблему, уместно отметить, что в рамках данной статьи речь пойдёт не о целях наказания в их совокупности, месте и роли этих целей в уголовном праве, не о разнообразии взглядов и идей по данному поводу (хотя и их тоже придётся коснуться), а лишь об одной из целей наказания, а именно об исправлении осуждённого (преступника – данное уточнение приводится, чтобы подчеркнуть направленность воздействия именно на преступника – лицо, не только признанное судом виновным в совершении преступления и осуждённое к наказанию, но и являющееся таковым в действительности). Представляется, что исправление преступника имеет ряд особенностей, качественно отличающих его от прочих целей наказания и при этом ставящих под сомнение необходимость упоминания его в законе – как минимум в нынешнем виде.
В ч. 2 ст. 43 УК РФ установлено три цели наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого, предупреждение преступности. Несмотря на то, что цели наказания в уголовном законе приведены последовательно, и это может интерпретироваться как попытка законодателя выстроить определённую иерархию целей, представляется верным утверждение, что все цели наказания должны преследоваться солидарно, т. е. в равной степени при назначении каждого наказания [2, с. 191].
Первая и третья цели не имеют нормативно закрепленной трактовки, а потому могут быть раскрыты широко и очень разнообразно. Некоторые из таких интерпретаций, как то кара вкупе с компенсацией для восстановления социальной справедливости и удержание от совершения преступлений за счёт эффекта устрашения для предупреждения (превенции), кажутся вполне правдоподобными, а следовательно, достижимыми. Но вторая цель наказания – исправление осуждённого, мало того, что самой своей формулировкой вызывает немало вопросов, так ещё и имеет законодательное определение, которое лишь увеличивает число этих вопросов.
Так, ч. 1 ст. 9 УИК РФ определяет исправление осуждённого как формирование у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, а также стимулирование правопослушного поведения. Все эти качества полагаются необходимым свидетельством утраты лицом (преступником) признака общественной опасности. В данной связи указывается, что перечисленные качества могут быть выработаны у личности в связи с применением к ней уголовного наказания [3, с. 27–28]; по крайней мере, так считает законодатель, включивший именно такую формулировку определения исправления осуждённого в закон, хотя сомнительным кажется всё, начиная с самого этого определения и заканчивая его (определения) смыслом.
Содержащееся в законе определение исправления осуждённого делает акцент на личности преступника, а не на преступлении, которое эта личность совершила (как следовало бы, ведь наказание, прежде всего, является следствием совершения преступления, а никак не следствием «преступности» какого-то лица), на формировании у лица уважительного отношения к обществу и его ценностям, а не на осознанном воздержании от совершения новых запрещённых уголовным кодексом деяний. Закон содержит норму о социальном исправлении преступника, однако оно, социальное исправление, является задачей воспитательной работы, связанной не только и не столько с назначением и исполнением наказания, сколько с деятельностью всех общественных институтов, отвечающих за социализацию личности [4, с. 82]. Более корректным здесь будет говорить о цели юридического исправления, т. е. об уже упомянутом осознанном воздержании от совершения новых преступлений, основание которого вовсе не обязательно должно быть связано с качественными изменениями в личности преступника.
Данное в ч. 1 ст. 9 УИК РФ определение исправления осуждённого близко повторяет ст. 20 УК РСФСР, где говорилось, что наказание «имеет целью исправление и перевоспитание осуждённых в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, уважения к правилам социалистического общежития». Помимо поправки на изменившиеся с 1960 года приоритеты (упомянуты человек и общество, ни слова о социализме), было исключено упоминание перевоспитания осуждённого, фактически подразумевающееся как часть исправления, а то и вовсе являющееся синонимичным исправлению термином (либо термином, более широким, чем исправление, и включающим в себя исправление как начальный этап процесса перевоспитания). В комментарии к УК РСФСР 1960 года (в редакции 1994 года) отмечается, что исправление и перевоспитание преступника больше относятся к процессу исполнения наказания, т. е. к области уголовно-исполнительного (исполнительно-трудового) права, а не уголовного, в рамках которого наказание отвечает скорее цели предупреждения преступности. Исполнение же наказания «влияет на психику людей и вызывает стимулы законопослушного поведения» [5, с. 69–71]. Интересно, что намеченное в советской (и ранней постсоветской) доктрине разделение цели исправления преступника на цель наказания в уголовном праве и цель исполнения наказания в уголовно-исполнительном праве встречается (и даже развивается) и в современное время. Так, например, утверждается, что цель исправления осуждённого в уголовно-исполнительном законодательстве имеет более широкое содержание, чем в уголовном, поскольку предполагает достижение совокупности юридического и социального исправления посредством полного преобразования «социально-психологического облика осуждённого» [6, с. 367–368]. Однако подобное деление кажется излишним. Уголовно-исполнительное право носит процессуальный характер по отношению к уголовному и, следовательно, призвано обеспечить (и уточнить) процедуру реализации положений уголовного закона в части наказания. Цель же исправления преступника в уголовно-исполнительном праве представляется не чем иным, как уточнением, легальной трактовкой цели исправления преступника в уголовном праве, т. е. по сути той же самой целью. Но всё это никак не исключает проблемного характера этой цели наказания, а напротив, позволяет говорить о том, что её наличие в законодательстве является отголоском ушедшей в прошлое вслед за старым уголовным законом доктрины.
Проблемный характер цели исправления преступника как цели наказания обусловлен рядом обстоятельств. Во-первых, можно ли всерьёз отнестись к идее полного преобразования социально-психологического облика преступника в рамках применения уголовного наказания и посредством мер уголовно-правового и уголовноисполнительного воздействия? Вероятно, да, но лишь если говорить о комплексном воздействии на его личность, в котором наказание будет только одним из элементов воздействия, его частью и при том точно не большей. Гипотетическая же способность уголовного наказания самостоятельно справиться со столь масштабной и сложной задачей обладает чертами околонаучной фантастики, хотя даже в фантастических произведениях подобный подход к значимости наказания (и прочих репрессивных мер со стороны государства) подвергается критике. Например, в романе-антиутопии Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» есть такие строки: «…обычный преступный элемент, даже самый отпетый …, лучше всего реформировать на чисто медицинском уровне. Убрать криминальные рефлексы – и дело с концом. <…> Наказание для них ничто, сами видите» [7, с. 96]. Интересно, что изображённые английским писателем результаты альтернативного традиционному уголовному наказанию медицинского «реформирования» преступника – воздействия на личность на уровне физиологии, вовсе не предполагая какого-либо осознания преступности поведения, а равно и формирования неких приемлемых социальных установок, – оказались крайне неоднозначными. В результате даже такая крайняя и «революционная» мера фактически не привела к исправлению преступника. Сильно бы отличался итог, если бы нечто похожее происходило не на страницах художественного произведения, а в действительности? Для наглядности уместно привести данные, характеризующие реальную и более или менее актуальную ситуацию: в 2014 году было осуждено 241765 ранее судимых лиц, а точнее – лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, что составляет 33,6 % от всех осуждённых лиц (719305 лица) [8]. Вместе с тем, около 187 тысяч лиц были осуждены к лишению свободы три раза и более и содержались в местах лишения свободы в рассматриваемом году (всего же содержалось в местах лишения свободы около 665 тысяч лиц, т. е. речь идёт о 28,1 % от общего числа), при этом абсолютное значение этого показателя росло последовательно с 2012 года [9]. Можно ли сделать из этих «сухих» цифр какие-то выводы? Разве только обобщённые и выглядящие следующим образом: доля рецидивов преступлений остаётся практически неизменно высокой (ведь треть от всех преступлений – очень весомый показатель), что выявляет недостаточную эффективность применения наказания (даже привлечения к уголовной ответственности как таковой) для цели предупреждения совершения новых преступлений (лицом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности), а уж тем более для цели исправления преступника.
Во-вторых, реальное – юридическое – исправление по сути своей является частным (специальным) предупреждением (превенцией), а никак не какой-то самостоятельной целью наказания. Юридическое исправление лица представляет собой результат реализации цели частного предупреждения и выражается в несовершении новых преступлений вследствие рационального отказа от самой мысли об их возможном совершении. И представляется совершенно не важным, что привело к осознанному отказу лица от совершения нового преступления – некое моральное преображение личности или обыкновенный страх претерпевания негативных последствий наказания вновь. Важен сам факт отказа от совершения нового преступления, именно отказ является показателем эффективности применения уголовной репрессии, а равно и целью наказания, именуемой исправлением [10, с. 263–265], тождественной по содержанию другой цели – частному предупреждению совершения новых преступлений.
В-третьих, цели наказания должны быть реальными, т. е. достижимыми, и достижимыми всеми наказаниями в равной степени. Последнее обстоятельство особенно важно, ведь в законе нет уточнения, что формулировка цели исправления осуждённого относится только к исполнению наказаний, связанных с лишением свободы. А значит не только этот вид наказания (лишение свободы на определённый срок, пожизненное лишение свободы; сюда же можно отнести частично применяемый арест), для которого более или менее детально определены средства исправления осуждённого, и точно не смертная казнь, радикально и окончательно исключающая любую возможность совершения лицом нового преступления, но и все прочие наказания, начиная со штрафа и заканчивая ограничением свободы, должны достигать целей наказания, установленных в уголовном законе. Но могут ли, например, сто пятьдесят часов обязательных работ или штраф в несколько десятков тысяч рублей развить у человека уважение к другим людям, обществу, труду, правилам и нормам человеческого общежития и т. д.? При этом речь идёт именно о действительном и ощутимом для лица негативном воздействии, а не о мифическом общественном порицании и прочих дополнительных факторах, лишь теоретически призванных сопутствовать наказанию. Кажется, что в данном контексте цель исправления осуждённого, одинаково определяемая для всех наказаний, недостижима и носит исключительно декларативный характер, что существенно снижает её ценность.
Наличие проблемы, а в данном случае проблемой является недостижимость и неуместная в уголовном праве (и праве вообще) чрезмерная декларативность (т. е. нереальность) исправления осуждённого как цели наказания, подразумевает поиск её решения. В качестве такого решения подходящим кажется если не полное исключение всех упоминаний об исправлении осуждённого из уголовного (из ч. 2 ст. 43 УК РФ) и уголовно-исполнительного законодательства при отождествлении юридического исправления с целью частного предупреждения совершения новых преступлений, то, как минимум, уход от формулировки ч. 1 ст. 9 УИК РФ, содержащей определение (во многом устаревшее и совершенно оторванное от реальности) социального исправления как цели исполнения наказания.
Это, на наш взгляд, заложило бы основу для изменения самого подхода к уголовному законодательству в целом и построению системы наказаний в частности, позволило бы отойти от декларативных норм, не способствующих противодействию преступности, а также послужило бы началом кардинального реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Список литературы Исправление осуждённого (преступника) как цель наказания
- Уголовное право на современном этапе. Проблема преступления и наказания/под ред. Н.А. Беляева, В.К. Глистина и В.В. Орехова. СПб., 1992.
- Адельханян Р.А. Уголовное право России. Практический курс: учебник/под общ. и науч. ред. А.В. Наумова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2010.
- Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный)/А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015.
- Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учеб. пособ. М.: Статут, 2015.
- Уголовный кодекс Российской Федерации: научн.-практич. комм./под ред. Л.Л. Кругликова и Э.С. Тенчова. Ярославль: Влад, 1994.
- Российское уголовное право: в 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник/под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015.
- Бёрджесс, Энтони. Заводной апельсин; Семя желания/пер. с англ. В.Б. Бошняка, А.А. Комаринец. М.: АСТ, 2015.
- Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные судебной статистики . URL: www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_2008-2014.xls.
- Федеральная служба государственной статистики. Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы . URL: www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-11.doc.
- Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973.