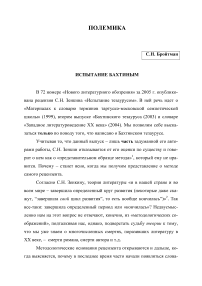Испытание Бахтиным
Автор: Бройтман Самсон Наумович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Полемика
Статья в выпуске: 1 (2), 2006 года.
Бесплатный доступ
Бахтинский тезаурус, михаил бахтин
Короткий адрес: https://sciup.org/14913974
IDR: 14913974
Текст статьи Испытание Бахтиным
Методологические основания рецензента открываются и дальше, когда выясняется, почему в последнее время часто начали появляться слова- ри по теории литературы, – этот факт наш автор возводит в ранг «мирового словарного бума». Главная причина, по С.Н. Зенкину: для «кончившейся» теории литературы естественно обратиться к созданию словарей, ибо они «сохраняют и даже подчеркивают понятийный метаязык описываемой дисциплины, но не высказывают на нем завершенных текстов»3. Вот, оказывается, каков идеал современной теоретической мысли (он даже сформулирован изысканно и по-иностранному): «не высказывать текстов». В переводе на простой язык это значит: не брать на себя ответственности ни за что и создавать вторичные, воистину безысходные дискурсы об уже существующих дискурсах.
Мы не будем говорить, насколько применимы провозглашаемые методологические приемы ко всем трем рецензируемым изданиям, но с Бахтинским тезаурусом у них, во всяком случае , нет точек пересечения. С.Н. Зенкин это видит, но вся тонкость его критического метода заключается в том, чтобы, не сказав ничего определенно, исподволь внушить читателю, что авторы не выдерживают испытания тезаурусом, ибо они (вслед за М.М. Бахтиным) не придерживаются современнейшей методы рецензента и устарело продолжают «высказывать тексты». Тут приоткрывается еще одна составляющая метода С.Н. Зенкина: релятивистский отказ от суждений у него нерефлексированно соединяется с позицией «знающего, как надо».
Мы уже видели, что С.Н. Зенкин знает о кризисе-смерти теории и знает, почему ее должны заменить словари. Далее, относительно словаря точно известно, что его задача – « подвести итоги »; « сохранить понятийный метаязык описываемой дисциплины»; представить «его как готовый к применению, аккуратно разложенный и начищенный набор тонких инст-рументов»4; наконец, автор уверен, что «любой словарь всегда призван сглаживать , нормализовать реальное разноречие»5 (курсив наш – С.Б. ).
То, что существуют разные типы словарей, а потому у некоторых из них могут быть исследовательские задачи, в расчет не принимается.
Относительно М.М. Бахтина автор тоже знает, что тот «непоследователен в употреблении терминов», «мало озабочен тем, чтобы придать им устойчивый, однозначный, удобный для систематизации и трансляции смысл»6. То, что терминологическая непоследовательность М.М. Бахтина – околонаучный миф, уже снятый серьезными исследованиями, а однозначность и удобство для трансляции были не идеалом ученого, а совсем наоборот, – все это для рецензента, знающего, «как надо», совершенно неважно.
В действительности, смесь релятивизма и догматизма, кажущаяся С.Н. Зенкину новейшим методом теории литературы, противопоказана и М.М. Бахтину, и «Бахтинскому тезаурусу». Тезаурус не ставит задачи «подведения итогов» (это делают над мертвым); его авторы хотят не просто «сохранить», а еще понять и изучить язык Бахтина, чтобы ответить ему, учитывая его природу (проблема, актуальная и для рецензента, но им не отрефлексированная, что показывают многие места его статьи). И уж совсем авторы тезауруса не рассматривают язык ученого как «готовый набор» чего бы то ни было. Это было бы прямым неуважением к ученому, который своим методом (а не декларациями) доказал, что « ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, еще все впереди и всегда будет впере-ди »7. Столь же несвойственно «Тезаурусу» «сглаживать» разноречие Бахтина – авторы, напротив, стремились услышать в его высказывании разные голоса и понять смысл его многоголосия (на уровне менее явном, чем язык «масок» ученого).
Налицо, таким образом, глухое (полное?) несовпадение исходных установок рецензента с научным методом М.М. Бахтина, который стараются выявить и осознать его исследователи. Истоки этого несовпадения выходят за пределы науки, что порой и искушает рецензента переходить с академического тона на тон Зоила. Но мы оставим это на совести автора и рассмотрим его замечания по существу, насколько это возможно при химическом составе его чернил.
Главный предмет его несогласия с авторами тезауруса – их понимание самой сущности научного языка М.М. Бахтина. В такой ситуации научная корректность требовала от рецензента системно изложить аргументы своих оппонентов и затем подвергнуть их критическому анализу. Но, очевидно, это было бы отступлением от заветного методологического убеждения С.Н. Зенкина – «не высказывать текстов». Поэтому он заходит сбоку.
Авторы тезауруса (равно как и Л.А. Гоготишвили, А. Садецкий и др.) приводят доказательства, говорящие о диалогической природе научного языка М.М. Бахтина, который не поддается монологическому овеществлению. С.Н. Зенкин прямо с ними не спорит, но ищет у своих оппонентов «ошибки», которые могут дискредитировать их точку зрения.
Иронизируя над авторами тезауруса, якобы «взыскующими» у Бахтина «принципиально невыразимых, не формулируемых “вещественным” дискурсом высших смыслов»8, рецензент заодно приписывает своим оппонентам нечто противоположное тому, что они говорят, запросто смешивая « вещественное » и « овеществленное ». Мы пишем, что термины Бахтина не поддаются именно «овеществлению», то есть формализованному, чисто логическому и объектному пониманию, но из этого никак не следует, что мы считаем высказывание Бахтина чем-то «невещественным», то есть не имеющим материального носителя.
Другую ошибку С.Н. Зенкин находит, как ему кажется, в нашем утверждении, что М.М. Бахтин как «первичный автор» «облекается в молчание». «Это заключение, – сетует он, – пожалуй, не вполне логически последовательно. Судя по контексту, в словах об “авторе произведения” Бах- тин имеет в виду писателя-художника (вероятно, он как-то иначе высказался бы об авторе расписки или милицейской справки). Между тем сам он был не писателем, а ученым, следовательно, к его собственному дискурсу сказанное, вообще говоря, не относится»9.
Перед нами образец логического и при этом абсолютно не соответствующего действительности суждения. «Первичным автором» (а не просто «автором произведения») Бахтин в интересующем нас контексте называет не только писателя: «Слово первичного автора не может быть собственным словом, оно нуждается в освящении чем-то высшим и безличным (научными аргументами, экспериментом, объективными данными, вдохновением, наитием, властью и т.п.)»10. Очевидно, что «научные аргументы, эксперимент, объективные данные» – отсылают нас к автору-ученому, «вдохновение» – к писателю, «наитие» – к религиозному деятелю, «власть» – к политику. В каждой из данных областей, по Бахтину, можно быть «автором», но можно остаться «героем». Конечно, на автора денежной расписки эти положения целиком распространить нельзя, но на ученого, о чем у нас идет речь, можно и нужно, если, конечно, это не автор, «не высказывающий текстов». Различия же между автором научной работы и художественного произведения, которые Бахтин, естественно, хорошо видит, – более тонкие, и мы здесь в них погружаться не будем, заметив только, что они связаны с наличием или отсутствием «героя» высказывания.
Да, о смысле термина Бахтина нужно думать каждый раз, а не один раз навсегда. Конечно, с точки зрения экономии мышления тут большое неудобство. Особенно если перед нами гротескный в самом прямом смысле слова термин, например, «внежизненно активная» позиция. С точки зрения С.Н. Зенкина, это всего лишь «причудливое» и «самодельное» образование, а автор статьи об этом термине «ставит перед собой невыполнимую задачу – нормализовать понятие, для которого Бахтин не придумал устойчивого термина, ибо “внежизненно активная позиция” – это ведь да- же не гапакс, а искусственный исследовательский конструкт: сам Бахтин писал о “внежизненно активной” точке зрения (этот смысловой нюанс не так уж ничтожен), да и то всего однажды, а в остальных случаях пользовался выражениями “небытийность”, “вненаходимость”, “чисто смысловая активность” и прочими сугубо негативными словесными жестами»11.
И здесь рецензент демонстрирует ту же проницательность, что и выше. Бахтин, действительно, чаще всего употреблет формулу «внежиз-ненная активность» и редко определяет, чем она является – «точкой зрения», «подходом» или «позицией». Все эти моменты в ней соприсутствуют, как и некоторые другие. Известно, что ученый избегал давать многие свои ключевые категории в их исчерпывающей и статической формулировке, предпочитая рассыпать их составляющие по всему тексту и создавать контекст «голосов», в котором они будут прочитываться не как отвлеченные идеи, а как живые позиции личностей. Но интерпретаторы ученого склонны выхватывать один их этих голосов, выдавая его за всего Бахтина. До сих пор почти исключительное внимание толкователей (в том числе и С.Н. Зенкина) из всех вариаций термина привлекала его наименее развернутая и легче всего «логизируемая» формула – «вненаходимость», в итоге чего смысл понятия оказался обедненным. Это поставило задачу выявить инвариант данного термина, что мы и попытались сделать. И тогда оказалось невозможно обойтись без бахтинского слова «позиция», ибо оно входит в инвариантную структуру интересующей нас формулы.
Этим словом ученый пользовался гораздо чаще, чем термином «точка зрения», который встречается в таком контексте только один раз. Но дело не в частоте использования, а в его смысле и закономерности.
Бахтин прибегает именно к слову «позиция», когда говорит о двух противоположных пределах «внежизненной активности»: о нижнем – «жизненно-практической позиции»12, и о верхнем – « положительной активности новой авторской позиции в полифоническом романе»13.
В большинстве других случаев «внежизненная активность» корреспондирует не с точкой зрения , а с позицией («активность» – «ценностная позиция») – благодаря перекличкам семантических полей этих слов. Вот небольшая подборка словоупотреблений из работ разных лет (курсив везде Бахтина).
« Эта вненаходимость (но не индифферентизм) позволяет художественной активности извне объединять, оформлять и завершать событие <…>. Нужна существенная ценностная позиция вне познающего и вне долженствующего и поступающего сознания, находясь на которой можно было бы совершить это объединение и завершение (и завершение изнутри самого познания и поступка невозможно)»14.
«Я становлюсь активным в форме и формою занимаю ценностную позицию вне содержания – как познавательно-этической направленно-сти»15 .
«Здесь уместно еще раз подчеркнуть положительную активность новой авторской позиции в полифоническом романе»16.
«Всякий настоящий читатель Достоевского, который воспринимает его романы не на монологический лад, а умеет подняться до новой авторской позиции Достоевского, чувствует активное расширение своего сознания, но не только в смысле освоения новых объектов (человеческих типов, характеров, природных и общественных явлений), а прежде всего в смысле особого, никогда ранее не испытанного диалогического общения с полноправными человеческими сознаниями и активного диалогического проникновения в незавершимые глубины человека»17.
«Позиция сознания при создании образа другого и образа самого себя. Сейчас это узловая проблема всей философии. Начать с анализа примитивной позиции самосознания (но не в историческом плане). Человек у зеркала. Сложность этого явления при кажущейся простоте. Элементы его. Простая формула: я гляжу на себя глазами другого, оцениваю себя с точки зрения другого. Но за этой простотой необходимо вскрыть необычайную сложность взаимоотношения участников (их окажется много) этого события. Вненаходимость (я вижу себя вне себя)»18.
Во всех этих случаях ни разу не звучит вся формула «внежизненно активная позиция», но каждый раз речь идет именно о ней, а ее компоненты (хотя принадлежат разным произведениям 20–60 гг.) создают сплошной контекст, важнейшими составляющими которого являтся «позиция», «активность», «вненаходимость»: вненаходимость – художественная активность – ценностная позиция вне познающего – извне; становлюсь активным в форме – формою занимаю ценностную позицию; положительная активность авторской позиции; новая авторская позиция – активное расширение сознания – активного диалогического проникновения; позиция сознания – вненаходимость.
Целостности такого контекста позавидовал бы любой автор отдельного произведения.
Претендуя на критику Бахтина ( да и его исследователей ), стоило бы проявить большую чувствительность к стилю его научного мышления. Рецензента же, к сожалению, отличает сознательная или бессознательная установка то, чтобы не слышать своих оппонентов. Глух автор рецензии и к важнейшим категориям Бахтина. Он, как уже было отмечено , смешивает «овеществленное» и «вещественное»; утверждает, что «в эстетике Бахтина понятия ориентированы не на практическое применение, а на апофа-тическое иносказание»; «внежизненно активную» позицию принимает за «жест отрицания непосредственных данностей жизни сознания», «нечто, находящееся по ту сторону жизни»; термины ученого называет «причудливыми» и «самодельными»19, а его языку отказывает в авторефлексивности.
Если говорить об авторефлексивности научного языка Бахтина, то она после работ ряда исследователей, на которых ссылается и «Тезаурус»,
– научно доказанный факт. Чтобы его опровергнуть, нужно привести специальные аргументы. Ничего этого автор рецензии и не пытается сделать, но не устает повторять свое: «Бахтинская теория словесного творчества, при всей своей глубине, не обладает авторефлексивностью»20. Причем сначала это категорически утверждается, а потом выясняется, что это лишь может быть так («и одним из таких пределов может оказаться как раз отсутствие авторефлексивности»21). Хорошо было бы рецензенту при этом различать авторефлексию глухого и авторефлексию слышащего. Первая знает только себя и по приведенному выше образцу глухо повторяет свое, сама собою заслушиваясь; вторая – учитывает еще и другого, по крайней мере, умеет с ним аргументированно и уважительно спорить.
-
1 Зенкин С.Н. Испытание тезаурусом (Заметки о теории, 10) // Новое литературное обозрение. 2005. № 72. С. 330.
-
2 Там же. С. 327.
-
3 Там же. С. 327–328.
-
4 Там же. С. 327–328.
-
5 Там же. С. 330.
-
6 Там же. С. 330.
-
7 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 284–285.
-
8 Зенкин С.Н. Указ. соч. С. 335.
-
9 Там же. С. 330–331.
-
10 Бахтин М.М. Из записей 1970-1971 гг. // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 353.
-
11 Зенкин С.Н. Указ. соч. С. 332.
-
12 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 7.
-
13 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 116.
-
14 Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 33.
-
15 Там же. С. 59.
-
16 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 116.
-
17 Там же. С. 117.
-
18 Бахтин М.М. К вопросам самосознания и самооценки // Собр. соч.: В 7 т. Т. 5 . М., 1996. С. 72.
-
19 Зенкин С.Н. Указ. соч. С. 331.
-
20 Там же. С. 331.
-
21 Там же. С. 331.
Список литературы Испытание Бахтиным
- Зенкин С.Н. Испытание тезаурусом (Заметки о теории, 10)//Новое литературное обозрение. 2005. № 72. С. 330.
- Там же. С. 327.
- Там же. С. 327-328.
- Там же. С. 327-328.
- Там же. С. 330.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 284-285.
- Зенкин С.Н. Указ. соч. С. 335.
- Там же. С. 330-331.
- Бахтин М.М. Из записей 1970-1971 гг.//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 353.
- Зенкин С.Н. Указ. соч. С. 332.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности//Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 7.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 116.
- М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 33.
- Там же. С. 59.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. С. 116.
- Там же. С. 117.
- Бахтин М.М. К вопросам самосознания и самооценки//Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 72.
- Зенкин С.Н. Указ. соч. С. 331.
- Там же. С. 331.