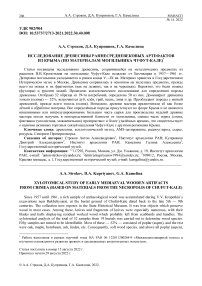Исследование древесины раннесредневековых артефактов из Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
Автор: Строков А.А., Куприянов Д.А., Камелина Г.А.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию древесины, сохранившейся на металлических предметах из раскопок В.В. Кропоткина на могильнике Чуфут-Кале недалеко от Бахчисарая в 1957-1961 гг. Датировка могильника укладывается в рамки конца V-IX вв. Материал хранится в Государственном Историческом музее в Москве. Древесина сохранилась в основном на железных предметах, прежде всего на ножах и их фрагментах (как на лезвиях, так и на черешках). Вероятно, это были ножны (футляры) и рукояти ножей. Проведено ксилотомическое исследование для определения породы древесины. Отобрано 52 образца из 19-ти погребений, определено 50 из них. Доминирует древесина тополя (осины) - 52%, встречаются дуб, клён, граб, ясень, липа и др. Преобладают породы с мягкой древесиной, прежде всего тополь (осина). Возможно, древние мастера предпочитали её как более лёгкий в обработке материал. Все определённые породы присутствуют во флоре Крыма и не являются инвазивными или интродуцированными. Большую часть сырья для производства изделий древние мастера могли получать в непосредственной близости от могильника, однако часть пород (сосна, фисташка туполистная, можжевельник) произрастают в более удалённых ареалах, что свидетельствует о наличии активных торговых связей населения Чуфут-Кале с другими регионами Крыма.
Древесина, ксилотомический метод, ams-датирование, радиоуглерод, сырье, ресурсы, северное причерноморье
Короткий адрес: https://sciup.org/14125265
IDR: 14125265 | УДК: 902/904 | DOI: 10.53737/2713-2021.2022.30.40.008
Текст научной статьи Исследование древесины раннесредневековых артефактов из Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
Древесина является одним из важнейших природных ресурсов, которые человек использует в своей повседневной жизни и хозяйственной деятельности с древности и вплоть до современности. Плиний Старший в «Естественной истории» отмечал, что деревья и леса были высшим даром, которым наградила земля человечество, они давали людям пищу, листва служила подстилкой в пещере, а кора — одеждой. Использование древесины подстегнуло экономическое развитие человечества: люди стали разрабатывать горы ради мрамора, начали торговлю с Китаем ради покупки изысканных одеяний, исследовали глубины Красного моря и недра земли в поисках жемчуга и изумрудов (Plin. NH, XII, I, 1—2).
В Государственном Историческом музее хранится коллекция из раскопок В.В. Кропоткиным грунтового могильника Чуфут-Кале в 1957—1959 и 1961 гг. В фонды музея им были переданы находки из 57 погребений (ГИМ 97863, оп. Б 1248—1250; ГИМ 100769, оп. Б 1532), остальные комплексы хранятся в Бахчисарайском историко-культурном и археологическом музее-заповеднике.
Благодаря скрупулезности Владислава Всеволодовича, в этих коллекциях сохранились многочисленные органические остатки: древесина, древесный уголь, фрагменты текстиля и кости человека. Нами уже проведено исследование фрагментов текстиля из некрополя Чуфут-Кале (Строков и др. 2022). В качестве объекта исследования в данной работе нами была избрана древесина, которая сохранилась на различных предметах из погребений. Прежде всего, это железные ножи — одна из самых многочисленных категорий находок в могильнике. Древесина сохранилась как на лезвиях (мы предполагаем, что это были остатки ножен или футляров), так и на черешках ножей (скорее всего, это были рукояти).
Для российских памятников использование ксилотомического метода, применяемого в данной работе, при анализе археологической древесины в настоящее время является развивающимся, но уже достаточно широко распространённым видом исследований. Однако большая часть работ приурочена к памятникам других регионов: древнего Новгорода (Вихров 1958; Тарабадина 2007; Хатер 1996), Болгара (Гольева 2014), Ростилавля Рязанского, Ярославля и Дмитрова (Гольева 2005), северо-западного Прикаспия (Гольева 1999; Филин, Сутягина 2013; Shishlina et al. 2014), Алтая (Быков и др. 2005; Дашковский 2016; Мыльников и др. 2012; Тишкин, Мыльников 2016; 2018) и средней Сибири (Филатова, Филатов 2021), а также Прикамья (Мокрушин и др. 2019).
МАИАСП № 14. 2022
Исследований, посвященных археологической древесине в контексте древностей Северного Причерноморья, практически нет. Можно лишь упомянуть фундаментальные работы Н.И. Сокольского (Сокольский 1969; 1971), которые вышли уже более 50 лет назад. Также важно отметить работу А.А. Гольевой, посвящённую анализу древесины из культурных слоёв и погребальных памятников полуострова Абрау (Гольева 2009). Ряд исследований посвящены отдельным находкам древесины или деревянных изделий в Крыму и на сопредельных, близких культурно-исторически к полуострову, территориях (Корпусова, Ляшко 1990; Пожидаев и др. 2020; Строков 2020; Хайрединова 2020;), однако систематических исследований по данной теме для территории Крыма нам неизвестны. Мы решили восполнить эту лакуну и обратиться к этой теме на основе материалов, полученных при раскопках могильника Чуфут-Кале.
Цель нашего исследования — установить таксономическую принадлежность древесины, которую использовали древние ремесленники для производства своих изделий. Определив породу дерева, мы попытаемся установить источники сырья на основе анализа ареалов распространения той или иной породы дерева. Также мы попытаемся объяснить выбор вида древесины ремесленниками для изготовления предметов из погребений могильника Чуфут-Кале. Одной из главных задач также является публикация материала для дальнейших сравнительных исследований.
Расположения памятника, ландшафтнаяи геоботаническая характеристика региона
Раннесредневековый могильник Чуфут-Кале располагается на южном склоне ущелья Марьям-Дере под плато, на котором в конце VI—VII вв. была основана крепость Чуфут-Кале (рис. 1). Это плато находится в 2,5 км от современного г. Бахчисарай.
Для того чтобы проанализировать образцы древесины и установить источники сырья, которые использовали древнее население этого региона, необходимо показать расположение данной территории в ландшафтном и геоботаническом отношении.
С точки зрения ландшафтной приуроченности территория могильника Чуфут-Кале относится к горно-лесным склонам Яйлы (главной гряды Крымских гор), расположенным на стыке с ландшафтами лесокустарниковых и лесостепных (южного типа) куэстовых гряд (Гвоздецкий 1968: 163). Согласно карте геоботанического районирования Крыма (Дидух 1986: 25) регион расположения памятника приурочен к границе двух геоботанических районов: Ялтинского, относящегося к Горному геоботаническому округу (северный макросклон Яйлы выделен в отдельный подрайон) и Бахчисарайского, входящего в Предгорный геоботанический округ.
Для Ялтинского района характерно преобладание лесов из дуба пушистого ( Quercus pubescens ), а также лесов, в которых содоминирует граб восточный ( Carpinus orientalis ). Также встречаются леса из сосны крымской ( Pinus pallasiana ) и ясеня обыкновенного ( Fraxinus excelsior ). Распространены в данном районе и смешанные широколиственные леса из бука восточного ( Fagus orientalis ), граба обыкновенного ( Carpinus betulus ) и клёна Стевена ( Acer hyrcanumi ), но, как правило, они встречаются на более высоких склонах относительно расположения могильника Чуфут-Кале. Отличительной особенностью северного подрайона от южных макросклонов Яйлы является отсутствие в древостоях фисташки туполистной ( Pistacia mutica ).
Для Бахчисарайского района характерна сложная мозаика из лесов с преобладанием дуба пушистого ( Quercus pubescens ) и степных ландшафтов. Существенную роль в древостоях
МАИАСП № 14. 2022
Исследование древесины раннесредневекового Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
играют граб восточный ( Carpinus orientalis ) и кизил ( Cornus mas ). Широко распространены заросли шибляка из держидерева ( Paliurus spina-christi ), фисташки туполистной ( Pistacia mutica ), жасмина кустарникового ( Jasminum fruticans ) и пузырника киликийского ( Colutea cilicica ). В речных поймах преобладают заросли нескольких видов ивы ( Salix ) и тополя чёрного ( Populus nigra ). Важно отметить, что современные ландшафты данного района существенно преобразованы в результате постоянной хозяйственной деятельности человека. При этом детальные палеогеографические реконструкции, включающие в себя реконструкции растительного покрова, для данной территории отсутствуют.
В целом флора Крымского полуострова отличается высоким разнообразием потенциальных источников древесины: выделено 77 видов деревьев и 113 видов древесных кустарников (Саприна 2000: 7).
Археологический контекст
Могильник был открыт весной 1946 г. потомственным сторожем крепости Чуфут-Кале и одним из основателей Музея пещерных городов Я.А. Дубинским (Полканова 2005: 84). В 1946— 1947 гг. Музеем пещерных городов была организована экспедиция, в задачи которой входило определение границ некрополя и выявлении наиболее ранних погребений. Раскопками руководил П.П. Бабенчиков. В 1948 г. в связи с его скоропостижной смертью раскопки на памятнике продолжил Е.В. Веймарн, участвовавший и в предыдущих сезонах. В 1952—1961 гг. исследованием могильника занималась совместная экспедиция ИА АН СССР и Бахчисарайского историко-археологического музея под руководством В.В. Кропоткина (Кропоткин 1958: 207— 212; 1965: 108; Набоков 2016: 354—355; Юрочкин 2013: 396). За все годы раскопок было вскрыто более 1000 кв.м. Всего В.В. Кропоткиным было исследовано 93 грунтовых склепа, 21 подбойная могила, 2 грунтовых могилы (Кропоткин 1952; 1957; 1965: 108).
Основным погребальным сооружением могильника были земляные склепы с прямоугольной или овальной камерой, узким дромосом и небольшим входным отверстием, который закрывался известняковой плитой (рис. 2: 1 ). Практически все они были ограблены в древности (как отмечал автор раскопок, ограбление происходило при выкапывании следующих погребальных конструкций). В склепах как правило совершалось от 3 до 9 захоронений, погребенные лежали вытянуто на спине, головой ко входу.
Менее распространены подбойные могилы (рис. 2: 2 ). Они имели традиционную для этого типа захоронений конструкцию — прямоугольную входную яму, в длинной стороне которой вырубалась ниша-подбой. Камеры подбоев отделялись каменным закладом или известняковой плитой. Этот тип погребальных сооружений, по заключению В.В. Кропоткина, практически не подвергался ограблению. В могиле, как правило, найден один костяк, лишь в одном случае два. Умерший лежал вытянуто на спине головой на юго-запад.
Несмотря на ограбление, многие погребения сохранили достаточно богатый и разнообразный инвентарь. Прежде всего, это детали ременных гарнитур (пряжки, геральдические бляшки и наконечники ремней), фибулы (прогнутые подвязные, двупластинчатые), украшения (серьги, подвески, бусы, перстни), глиняные сосуды и их фрагменты, различные орудия (железные ножи, кресала), монеты и др.
До настоящего времени могильник Чуфут-Кале остается неопубликованным, в литературе упоминаются лишь общие хронологические рамки этого некрополя. Автор раскопок датировал памятник, основываясь на монетных находках, широким интервалом второй половины V — началом IX вв. (Кропоткин 1965: 114). Наиболее ранними
210 А.А. Строков, Д.А. Куприянов, Г.А. Камелина МАИАСП № 14. 2022
погребениями на могильнике, по мнению В.В. Кропоткина, были подбойные могилы и два земляных склепа с лежанками (Кропоткин 1965: 109).
Образцы для нашего исследования отбирались из следующих погребений: 57, 58, 65, 77, 80, 89, 96, 98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 118, 120, 124. Кратко остановимся на датировке этих комплексов.
Одним из наиболее ранних из рассматриваемых погребений можно считать склеп 57. Нами получена AMS-дата по образцу угля (клён) из него (табл. 1). Судя по этим результатам, погребение 57 может быть отнесено к VI в. Нужно заметить, что данная датировка не учитывает возраст самого датированного дерева, так как из-за размера образца подсчитать его по годовым кольцам не представлялось возможным. Тем не менее, в пользу того, что мы можем не делать поправку на «эффект старого дерева», говорят находки железной пряжки с овальной и с прямоугольной рамкой (рис. 3: 1, 2 ), широко распространенные в крымских могильниках в VI в. (Айбабин 1999: табл. XXVII; Айбабин, Хайрединова 2008: рис. 20: 4 ). Схожая овальнорамчатая пряжка найдена в склепе 58 (рис. 3: 3 ), поэтому и его мы можем датировать VI в.
Склеп 108 может быть датирован по железной подвязной фибуле византийского круга (рис. 3: 4 ). Она имеет многочисленные аналогии в памятниках типа Суук-Су — Лучистое, И.О. Гавритухин относит их к середине VI — началу VII вв., также приводя и экземпляр из Чуфут-Кале (Гавритухин 2010: 53, рис. 18: 1 , неверно указан номер погребения — «склеп 104», на самом деле фибула происходит из склепа 108). Судя по всему, к этой же группе может быть отнесена и фибула из склепа 65 (рис. 3: 5 ) (Гавритухин 2010: рис. 23: 10 , 25: 10 ). В то же время в этом же погребении найдены железные пряжки с овальной и В-образной рамкой и массивным язычком (рис. 3: 6—8 ), которые имеют многочисленные аналогии в древностях второй половины V — рубежа V—VI вв. (Айбабин, Хайрединова 2017: рис. 89: 2 , 90: 9, 14, 16 ). В склепе 65 найдена монета Феодосия I (379—395 гг.) плохой сохранности (Кропоткин 1965: 114), что может говорить в пользу более ранней даты начала использования этого погребения — вторая половина V — начало VI в.
Геральдические накладка и наконечники ремня в склепе 107 (рис. 3: 9—11 ), судя по всему, принадлежали обувному набору типа 3-2А по Э.А. Хайрединовой, которые она датирует второй половиной VI в. (Хайрединова 2003: 136—137; рис. 11—12). Также в этом склепе были найдены железная овальнорамчатая пряжка (рис. 3: 12 ) и византийская монета, служившая подвеской (возможно, Юстиниана I) (Кропоткин 1965: табл.), что также говорит в пользу датировки этого комплекса второй половиной VI в.
Пряжка из склепа 98 по пряжке с ромбическим щитком (Кропоткин 1965: рис. 45: 5 ) может быть датирован второй половиной VII в. (Айбабин, Хайрединова 2017: 254, рис. 189). Серьги из склепов 104 и 113 (рис. 3: 14, 15 ) имеют многочисленные аналогии в могильниках Лучистое и Эски-Кермен, где авторы раскопок датируют их VII—VIII вв. (Айбабин, Хайрединова 2008: рис. 23: 6 ; Айбабин 2003: рис. 39: 9, 15 ).
В своей недавно опубликованной работе И.О. Гавритухин с соавторами подробно остановился на анализе комплекса погребения 118 и датировал его VII в., поэтому мы ограничимся ссылкой на эту работу (Гавритухин и др. 2022: 196).
Наиболее поздним временем может быть датирована бронзовая пряжка с обломанным щитком из склепа 110 (рис. 3: 13 ), которая относится к IX в. (Айбабин 1999: табл. XXXII: 50 ). В пользу этой датировки говорит и находка солида Константина Копронима (741—775 гг.) в этом же погребении (Кропоткин 1965: табл., рис. 45: 36 ).
Таким образом, рассматриваемые в данной работе комплексы охватывают широкий хронологический интервал — конец V—IX вв.
МАИАСП № 14. 2022
Исследование древесины раннесредневекового Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
Материалы и методы
Нами отобраны образцы с различных предметов из коллекции могильника Чуфут-Кале, на которых сохранилась древесина (табл. 2) из следующих погребений: 57, 58, 65, 77, 80, 89, 96, 98, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 118, 120, 124 (всего 19 захоронений). В подавляющем большинстве образцы взяты с лезвия или черешка ножей (рис. 4). Эта категория находок является одной из наиболее многочисленных в некрополе Чуфут-Кале. Из 85 погребений могильника в 36 (то есть более чем в трети) встречались ножи (рис. 4: 1, 2, 8, 9 ) или их фрагменты (рис. 4: 3—6 ), зачастую по несколько экземпляров. Схожую картину можно отметить и для синхронных могильников, таких как Скалистое (Веймарн, Айбабин 1993: 180) и Лучистое (Айбабин, Хайрединова 2008). Мы предполагаем, что это были остатки деревянных ножен или футляров для ножа, а также рукоятей. Нами отбирались небольшие образцы, минимально возможного размера, чтобы наносить наименьший ущерб музейным предметам. С некоторых изделий отобрать пробы не удалось. Ряд образцов был отобран с фрагментов железных предметов, функциональное назначение которых установить затруднительно (рис. 4: 7 ) или невозможно в связи с почти полным разрушением изделий.
Определение таксономической принадлежности древесины осуществлялось ксилотомическим методом (Бенькова, Швейнгрубер 2004), стандартным для анализа археологической древесины (Florian 1990). Методика определения включала в себя получение срезов образцов трёх плоскостей кусочков древесины (в поперечной, тангенциальной и радиальной проекциях). Последующая идентификация выполнялась с помощью бинокулярного микроскопа Микромед Полар-1, оснащённого USB-камерой, под отражённым и проходящим светом при увеличении 50—400x. Для каждого из срезов определялись характерные особенности морфологического строения древесины, которые затем использовались в качестве ключевых признаков для определения таксономической принадлежности древесины с помощью атласов-определителей древесины России (Бенькова, Швейнгрубер, 2004) и древесных видов восточного Средиземноморья (Akkemik, Yaman 2012). Также использовался электронный атлас-определитель древесных видов центральной и восточной Европы «Wood anatomy of Central European species» (woodanatomy.ch: 1).
К сожалению, размер полученных образцов, в большинстве случаев не превышавший 7—8 мм, и степень их сохранности, а также особенности анатомического строения древесины большинства определённых пород не предоставили возможности идентификации древесины до вида. Определение осуществлялось только до рода, что типично для работ с археологическим деревом (Гольева 2005: 300).
Результаты
В общей сложности было получено 52 образца древесины, из которых удалось выполнить определение породного состава для 50. В результате ксилотомического исследования было установлено, что древесина изделий принадлежит к 12 родам (рис. 5). При этом отмечается значительная диспропорция распределения используемых пород для производства изделий. Большая часть изделий — 26 штук или 52% от всех образцов — изготовлено из древесины рода Populus (тополь). Весьма существенную долю составляют широколиственные породы: Quercus (дуб, 7 шт. или 14% от общего процента), Acer (клён, 4 шт. или 8%), Carpinus (граб, 4 шт. или 8%), Fraxinus (ясень, 2 шт. или 4%). Также к группе широколиственных пород можно отнести Tilia (липа, 1 шт. или 2%) и Corylus (лещина или лесной орех, также 1 шт., 2%). Оставшиеся породы — Betula (берёза), Euonymus (бересклет),
МАИАСП № 14. 2022
Pistacia mutica (фисташка туполистная), Juniperus (можжевельник) и Pinus (сосна) — также идентифицированы только для одного образца (по 2% от общих определений).
Все определённые породы деревьев и кустарников присутствуют во флоре Крымского полуострова в настоящее время и не являются инвазивными или интродуцированными (Соколов 1977; San-Miguel-Ayanz et al. 2016). К сожалению, нет возможности достоверно исключить вероятность происхождения изученных изделий вне пределов Крымского полуострова, определение таксономической принадлежности древесины может быть только лишь косвенным индикатором источника сырья для производства рассматриваемых предметов. Тем не менее, полученный спектр использованных пород древесины, в целом, указывает на местное происхождение изделий. Исследования, выполненные в северо-западной части Крымского полуострова, подтверждают, что в римскую эпоху население северного Причерноморья массово использовало древесину дуба, сосны, клёна, можжевельника, тополя и берёзы (Сокольский 1971: 25—26), однако эти данные в большей степени соответствуют материалу, полученному из остатков жилищ и домашней утвари. Кроме того, вопрос о сырьевой базе для данного региона является дискуссионным (Сокольский 1971: 13—18). Исследования для расположенного относительно недалеко полуострова Абрау в СевероВосточном Причерноморье показали, что в античное время широко использовалась древесина ясеня, граба, дуба, тополя, сосны, можжевельника и различных лиственных кустарников (Гольева 2009: 184—191), однако эти данные также приурочены не к отдельным изделиям, а остаткам древесины в культурном слое городищ и в погребениях.
Тем не менее, нельзя с уверенностью утверждать, что весь спектр использованной древесины соответствует территории в непосредственной близости от могильника Чуфут-Кале. Памятник расположен вне современных ареалов сосны, можжевельника и фисташки туполистной, которые встречаются на южных склонах Яйлы (Дидух 1986: 29). Остальные же древесные породы вполне могли произрастать в непосредственной близости от памятника, особенно во времена его функционирования, когда ареал лесов, предположительно, был больше современного (Сокольский 1971: 16).
С точки зрения физико-химических особенностей идентифицированных пород можно выявить тренд на преобладание пород с мягкой древесиной, к которым относятся тополь, липа и, в меньшей степени, лещина (лесной орех), сосна и можжевельник (Перелыгин, Уголёв 1971). При этом встречаются изделия из достаточно «твёрдых» пород древесины — дуба, граба, ясеня и клёна.
Наиболее значительной особенностью полученного спектра используемой древесины является доминирование древесины тополя (осины). Несмотря на то, что работы, посвящённые ксилотомическому анализу аналогичных предметов, достаточно редки, известны схожие случаи использования древесины. Например, установлено, что в погребении сарматского воина в кургане 4 могильника Дружба в Зимовниковском районе Ростовской области также использовались ножны из древесины тополя (Парусимов 1998: 26). Древнее тюркское населения Алтая использовало для изготовления ножен древесину ивы (Семёнов 1985: 36), которая по своим физическим свойствам и морфологическому строению практически идентична тополю (осине) (Бенькова, Швейнгрубер 2004: 376). Из древесины тополя или схожей по морфологическому строению ивы была сделана модель ножа, найденная в могильнике Яломан II на Алтае (Быков и др. 2008: 141). Можно предположить, что выбор ремесленников был обусловлен тем, что мягкие породы древесины в меньшей степени оказывают влияние на лезвие. Особенно это применимо для древесины тополя (осины), которая, несмотря на свою мягкость, крайне устойчива к истиранию и не трескается при сушке после намокания (Мокрушин и др. 2019: 38—39). Кроме того, мягкие
МАИАСП № 14. 2022
Исследование древесины раннесредневекового Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
породы древесины с наименьшими затратами поддаются обработке и удобны для производства массовых изделий. К примеру, погребальное ложе из погребения 1 таштыкского могильника Оглахты было изготовлено из тополя, и лишь некоторые его детали — из березы и сосны (Pankova et al. 2021: 36—37). Причиной использования древесины тополя для производства изделий также может быть широкое распространение данной породы в пределах северного Причерноморья (Сокольский 1971: 29).
Дискуссия и выводы
По результатам исследования мы установили, что использовалась древесина 12 различных родов. Мы считаем, что все использованное для производства ножей и других изделий, найденных в Чуфут-Кале, сырье, с большой долей вероятности, могло быть получено древними ремесленниками на территории Крымского полуострова и, в частности, непосредственно в окрестностях могильника и крепости Чуфут-Кале. Лишь некоторые породы, такие как сосна, фисташка туполистная и можжевельник, произрастают к югу от главной гряды Крымских гор, что может говорить о наличии тесных торговых связей населения предгорного и горного Крыма с побережьем. Стоит также отметить, что чисто теоретически можно предположить возможность производства предметов (или части из них), рассмотренных в данной работе, в другом центре, где преобладает другая растительность и леса с отличным от региона Бахчисарая составом пород, однако подтвердить или опровергнуть эту гипотезу не представляется возможным.
Мы исходили из того, что ножи (подавляющее большинство предметов, на которых обнаружена древесина) являются массовым материалом могильника Чуфут-Кале, к тому же они не имели какой-либо парадной инкрустации или следов орнаментации, их размеры невелики (что исключает их использование в качестве боевых ножей или кинжалов), поэтому можно предполагать, что они являлись рядовыми бытовыми предметами. В этой связи мы считаем, что ценность их была небольшая или средняя и вряд ли древние мастера должны были использовать дорогие ресурсы для их производства, поэтому они брали местную древесину, доступную неподалеку.
Этой же причиной может быть объяснено преобладание тополя/осины. Вероятно, этот выбор обусловлен целью минимального воздействия на лезвие и лёгкой доступностью древесины. Также можно предположить, что ремесленники предпочитали мягкие породы в связи с меньшими трудозатратами на её обработку при производстве такой массовой категории предметов, как ножи. Следует, однако, отметить, что такое объяснение может быть дискуссионным и не единственным возможным. Плиний Старший отмечает, что для производства дорогой мебели или облицовки чего-либо деревом в богатых домах Рима использовался, в том числе, и тополь (Plin. NH, XVI, LXXXIV, 232).
Мы предположили, что твердые породы древесины, такие как дуб, ясень, граб и клен, являлись более ценными для древнего населения и попытались выявить взаимосвязь наличия этих пород с более богатыми захоронениями. Как известно, дуб, благодаря своей твердости и прочности, всегда считался символом военной доблести. В Древнем Риме листва дуба использовалась для изготовления венков, которым награждались отличившиеся военные и которые служили символом императорской снисходительности (Plin. NH, XVI, III, 6—7; XVI, V, 11—13). До сих пор изображения дубовых ветвей и листвы используются в военной символике (награды, знаки отличия и др.) многих стран мира, в частности Германии и США.
Древние авторы также упоминают, что дуб используется при изготовлении различных покрытий или таких важных элементов, как оси колес повозок, где необходима прочность и
МАИАСП № 14. 2022
устойчивость к внешним воздействиям, а ясень, отличающийся твердостью и лёгкостью, к примеру, использовался при производстве колесниц (Plin. NH, LXXXIV, 228—230). Катон в «Земледелии» рекомендует для производства масличных прессов использовать граб, вяз, дуб и лавр (Cato R.R. XXXI).
Эта попытка выделения пород древесины, которые чисто теоретически могут быть индикатором социального статуса, натолкнулась на ряд трудностей. Прежде всего это характер и ограниченность выборки — было исследовано лишь 50 образцов, взятие пробы со многих предметов не представлялось возможным. Также нужно учитывать, что для определения социального статуса того или иного погребения важнейшее значение имеет погребальный инвентарь, а могильник Чуфут-Кале, как уже было отмечено выше, был сильно ограблен уже в древности. Тем не менее, можно сделать некоторые предварительные наблюдения. Явной корреляции того или иного состава породы исследованной древесины с тем или иным типом погребального сооружения, а также с богатым или бедным инвентарем, пока не прослеживается, но мы можем отметить, что наиболее богатые погребения, инвентарь которых хранится в ГИМ, такие как склепы 96 и 98 (в которых найдены богатые ременные гарнитуры и различные типы украшений), отличаются достаточным разнообразием пород древесины (табл. 2: 14—27 ) — в них встречены изделия как из тополя (осины), так и из дуба, граба и липы. Предварительно можно сделать вывод, что более высокое по социальному статусу население имело доступ к большему выбору древесины и изделий из нее.
Мы прекрасно понимаем, что выводы и предположения, выдвинутые в нашей работе, стоит оценивать как предварительные и дискуссионные, требующие апробации и верификации. Прежде всего, нам хотелось бы привлечь внимание других исследователей к данной проблематике и необходимости изучения всех органических материалов, которые находятся при археологических раскопках. Надеемся, что опубликованные нами результаты вызовут интерес и послужат хорошим статистическим материалом для дальнейших сравнительных исследований.
Табл. 1. Результаты AMS-датирования угля из склепа 57 могильника Чуфут-Кале 1
|
Лаб. номер |
Образец |
14C BP |
14C cal BC |
|
IGANams -10101 |
Уголь ( Acer , клён) |
1540 ± 20 |
68.3% probability 481AD ( 7.9%) 492AD 536AD (60.4%) 574AD 95.4% probability 436AD (10.8%) 464AD 475AD (13.4%) 501AD 508AD ( 1.5%) 516AD 529AD (69.8%) 594AD |
1 Радиоуглеродное датирование проведено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и Центре прикладных изотопных исследований Университета Джорджии (США), калибровка выполнена в программе OxCal 4.4, калибровочная кривая IntCal20 (Reimer et al. 2020).
МАИАСП № 14. 2022
Исследование древесины раннесредневекового Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
Табл. 2. Определение пород древесины из могильника Чуфут-Кале .
|
№ |
Номер по музейной описи |
Год исследования |
Погребение |
Предмет и место отбора образца |
Древесина |
|
1 |
Б-1248-188 |
1957 |
Погр. 57 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
2 |
Б-1248-190, 194 |
1957 |
Погр. 57 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
3 |
Б-1248-191 |
1957 |
Погр. 57 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
4 |
Б-1248-без номера |
1957 |
Погр. 57 |
уголь |
Acer (клён) |
|
5 |
Б-1248-214, 216 |
1957 |
Погр. 58 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
6 |
Б-1248-259 |
1957 |
Погр. 65-1 |
рукоять ножа |
Acer (клён) |
|
7 |
Б-1248-265 |
1957 |
Погр. 65-2 |
лезвие фрагмента ножа |
Quercus (дуб) |
|
8 |
Б-1248-382/5 |
1957 |
Погр. 77 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
9 |
Б-1248-382/8 |
1957 |
Погр. 77 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
10 |
Б-1248-448 |
1957 |
Погр. 80 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
11 |
Б-1248-448 |
1957 |
Погр. 80 |
рукоять ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
12 |
Б-1248-449 |
1957 |
Погр. 80 |
лезвие ножа |
Corylus (лещина/лесной орех) |
|
13 |
Б-1249-90 |
1958 |
Погр. 89 |
лезвие ножа |
Carpinus (граб) |
|
14 |
Б-1249-136 |
1958 |
Погр. 96 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
15 |
Б-1249-140 |
1958 |
Погр. 96 |
лезвие ножа |
Quercus (дуб)? |
|
16 |
Б-1249-156, 173 |
1958 |
Погр. 96 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
17 |
Б-1249-160 |
1958 |
Погр. 96 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
18 |
Б-1249-161, 177 |
1958 |
Погр. 96 |
лезвие ножа |
Quercus (дуб) |
|
19 |
Б-1249-168, 169 |
1958 |
Погр. 96 |
лезвие ножа |
Carpinus (граб) |
|
20 |
Б-1249-238 |
1958 |
Погр. 98 |
фрагмент ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
21 |
Б-1249-239 |
1958 |
Погр. 98 |
фрагмент ножа |
Tilia (липа) |
|
22 |
Б-1249-242 |
1958 |
Погр. 98 |
фрагмент ножа |
Quercus (дуб) |
|
23 |
Б-1249-246 |
1958 |
Погр. 98 |
фрагмент ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
24 |
Б-1249-247 |
1958 |
Погр. 98 |
фрагмент ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
25 |
Б-1249-253 |
1958 |
Погр. 98 |
фрагмент ножа |
Populu s (осина или тополь) |
|
26 |
Б-1249-264/1 |
1958 |
Погр. 98 |
рукоять ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
27 |
Б-1249-265 |
1958 |
Погр. 98 |
лезвие ножа |
Carpinus (граб) |
МАИАСП № 14. 2022
Табл. 2. Определение пород древесины из могильника Чуфут-Кале (продолжение) .
|
№ |
Номер по музейной описи |
Год исследования |
Погребение |
Предмет и место отбора образца |
Древесина |
|
28 |
Б-1250-32/1-7 |
1959 |
Погр. 104 |
фрагмент железного предмета |
Populus (осина или тополь) |
|
29 |
Б-1250-32/1-7 |
1959 |
Погр. 104 |
фрагмент железного предмета |
Populus (осина или тополь) |
|
30 |
Б-1250-61 |
1959 |
Погр. 105 |
фрагмент ножа |
Quercus (дуб) |
|
31 |
Б-1250-90 |
1959 |
Погр. 107 |
фрагмент железного предмета |
Acer (клён) |
|
32 |
Б-1250-111 |
1959 |
Погр. 108 |
фрагмент железного предмета |
Populus (осина или тополь) |
|
33 |
Б-1250-124 |
1959 |
Погр. 109 |
лезвие ножа |
Euonymus (бересклет) |
|
34 |
Б-1532-5 |
1961 |
Погр. 110 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
35 |
Б-1532-5 |
1961 |
Погр. 110 |
лезвие ножа |
Pistacia (фисташка туполистная) |
|
36 |
Б-1532-5 |
1961 |
Погр. 110 |
фрагмент железного предмета |
Acer (клён) |
|
37 |
Б-1532-15 |
1961 |
Погр. 111 |
лезвие ножа |
Fraxinus (ясень) |
|
38 |
Б-1532-15 |
1961 |
Погр. 111 |
лезвие ножа |
Fraxinus (ясень) |
|
39 |
Б-1532-16 |
1961 |
Погр. 111 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
40 |
Б-1532-16 |
1961 |
Погр. 111 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
41 |
Б-1532-55 |
1961 |
Погр. 113 |
фрагмент железного предмета |
Populus (осина или тополь) |
|
42 |
Б-1532-85 |
1961 |
Погр. 118 |
железный предмет кольчужного переплетения |
Quercus (дуб) |
|
43 |
Б-1532-86 |
1961 |
Погр. 118 |
лезвие ножа |
Betula (берёза) |
|
44 |
Б-1532-123 |
1961 |
Погр. 120 |
лезвие ножа |
Juniperus (можжевельник) |
|
45 |
Б-1532-123 |
1961 |
Погр. 120 |
рукоять ножа |
Pinus (сосна) |
|
46 |
Б-1532-129 |
1961 |
Погр. 124 |
лезвие ножа |
Populus (осина или тополь) |
|
47 |
Б-1532-129 |
1961 |
Погр. 124 |
фрагмент дерева неясного происхождения |
Quercus (дуб) |
|
48 |
Б-1532-129/2 |
1961 |
Погр. 124 |
рукоять ножа? |
Populus (осина или тополь) |
|
49 |
Б-1532-129/5 |
1961 |
Погр. 124 |
лезвие ножа |
Carpinus (граб) |
|
50 |
Б-1532-без номера |
1961 |
??? |
фрагмент железного предмета |
Populus (осина или тополь) |
МАИАСП № 14. 2022
Исследование древесины раннесредневекового Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
Список литературы Исследование древесины раннесредневековых артефактов из Крыма (по материалам могильника Чуфут-Кале)
- Айбабин А.И. 1999. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь: ДАР.
- Айбабин А.И. 2003. Крым в VIII—IX веках. Хазарское господство. Степь и Юго-Западный Крым. В: Макарова Т.И., Плетнева С.А. (отв. ред.). Крым и Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV—XIIIвека. Москва: Наука, 59—64 (Археология 18).
- Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. 2017. Крымские готы страны Дори (середина III — VII в.). Симферополь: ООО «Антиква».
- Бенькова В.Е., Швейнгрубер Ф.Х. 2004. Анатомия древесины растений России. Берн: Хаупт.
- Быков и др. 2005: Быков Н.И., Быкова В.А., Горбунов В.В., Тишкин А.А. 2005. Дендрохронологический и ксилотомический анализ древесины с Яломанского археологического комплекса. Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий IX-I, 286—288.
- Быков и др. 2008: Быков Н.И., Слюсаренко И.Ю., Тишкин А.А. 2005. Анатомический анализ древесины изделий из памятников гунно-сарматской эпохи Алтая. В: Деревянко А.П., Молодин В.И. (отв. ред.). Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий XIV. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 139—144.
- Веймарн Е.В., Айбабин А.И. 1993. Скалистинский могильник. Киев: Наукова думка.
- Вихров В.Е. 1958. Исследование древесины в древнем Новгороде. Труды института леса 37, 142—157.
- Гавритухин И.О. 2010. Византийские подвязные фибулы с S-видной петлей для оси пружины. Находки к северу и востоку от Дуная. В: Исланова И.В., Родинкова В.Е. (отв. ред.). Археология Восточной Европы в I тысячелетии н.э. Проблемы и материалы. Москва: ИА РАН, 35—89 (РСМ 13).
- Гавритухин и др. 2022: Гавритухин И.О., Обломский А.М., Торгоев А.И. 2022. Антропоморфные амулеты-фигурки из Стаево на фоне находок из Евразии. В: Обломский А.М. (отв. ред.). Торгово-ремесленный комплекс у с. Стаево в верховьях р. Воронеж (конец V—VII в.) и некоторые проблемы археологии Верхнего Подонья эпохи раннего Средневековья. Москва; Санкт-Петербург: Нестор-История, 170—226 (РСМ 21).
- Гвоздецкий Н.А. 1968. Физико-географическое районирование СССР. Москва: МГУ.
- Гольева А.А. 1999. Исследование древесных остатков и углей из погребений эпохи бронзы могильника Манджикины-1. В: Цуцкин Е.В., Шишлина Н.И. (отв. ред.). Могильник Манджикины-1 — памятник эпохи бронзы — раннего железного века Калмыкии (опыт комплексного исследования). Москва; Элиста: ГИМ; КИСЭПИ, 55—59.
- Гольева А.А. 2005. Информационные возможности определения пород по углям и древесине в археологических исследованиях. Археология Подмосковья 2, 300—309.
- Гольева А.А. 2009. Использование древесины на полуострове Абрау в древности. В: Малышев А.А. (отв. ред.). ABRAU ANTIQUA. Результаты комплексных исследований древностей полуострова Абрау. Москва: Гриф и К, 181—194.
- Гольева А.А. 2014. Естественнонаучные исследования на городище Болгар (первые результаты). ПА 2 (8), 205—229.
- Дашковский П.К. 2016. Исследование курганов скифского времени на могильнике Инской дол на Алтае. В: Мандрыка П.В. (отв. ред.). Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая: Материалы VII Международной научной конференции. Красноярск, 03—07 октября 2016 года. Красноярск: СФУ, 195—200.
- Дидух Я.П. 1986. Геоботаническое районирование Горного Крыма (на основе карты растительности). В: Исаченко Т.И., Грибова С.А. (отв. ред.). Геоботаническое картографирование. Ленинград: Наука, 22—33.
- Корпусова В.Н., Ляшко С.Н. 1990. Катакомбное погребение с пшеницей в Крыму. СА 3, 166—175.
- Кропоткин 1952: Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 778. Кропоткин В.В. Отчет о раскопках раннесредневекового могильника на юго-западном склоне Чуфут-Кале в 1952 г.
- Кропоткин 1957: Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 1679. Кропоткин В.В. Отчет о раскопках раннесредневекового могильника на юго-западном склоне Чуфут-Кале близ д. Староселье Бахчисарайского района Крымской области.
- Кропоткин В.В. 1958. Из истории средневекового Крыма (Чуфут-Кале и вопрос о локализации города Фуллы). СА XXVIII, 198—218.
- Кропоткин 1959: Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2184а. Альбом к отчету В.В. Кропоткина о раскопках в Чуфут-Кале в 1959 г.
- Кропоткин 1961: Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 2595а. Кропоткин В.В. Альбом к отчету об археологических раскопках могильника Чуфут-Кале в 1961 году.
- Кропоткин В.В. 1965. Могильник Чуфут-Кале в Крыму. КСИА 100, 108—114.
- Мокрушин и др. 2019: Мокрушин И.Г., Красновских М.П., Иванов П.А., Каменщиков О.Ю., Крыласова Н.Б., Сарапулов А.Н. 2019. Опыт определения пород древесины методом сканирующей электронной микроскопии (по материалам Рождественского городища в Пермском крае). В: Крыласова Н.Б. (отв. ред.). Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. Вып. 15, 34—43.
- Мыльников и др. 2012: Мыльников В.П., Быков Н.И., Слюсаренко И.Ю., Тишкин А.А. 2012. Сравнительный анализ деревянных предметов из археологических памятников Алтая в свете междисциплинарного подхода. В: Деревянко А.П., Молодин В.И. (отв. ред.). Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий Т. 18. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 242—248.
- Набоков А.И. 2016. Основные этапы изучения городища Чуфут-Кале. История и археология Крыма III, 348—371.
- Парусимов И.Н. 1998. Раскопки курганов в Зимовниковском районе. Труды Новочеркасской археологической экспедиции 3, 4—43.
- Перелыгин Л.М., Уголев Б.Н. 1971. Древесиноведение. Москва: Лесная промышленность.
- Пожидаев В.М. и др. 2020: Пожидаев В.М., Лобода А.Ю., Камаев А.В., Яцишина Е.Б. 2020. Исследование древесины гребня для волос из раскопок городища на плато Эски-Кермен. МАИЭТ XXV, 313—321.
- Полканова Т.А. 2005. Основатель музея пещерных городов. Памяти Я.А. Дубинского. В: Крымские караимы: происхождение, этнокультура, история. Симферополь: Доля, 83—86.
- Саприна В.И. (ред.). 2000. Атлас по географии Крыма. Симферополь: Союзкарта.
- Семенов А.И. 1985. Восстановление кудыргинских ножен древнетюркского времени. СГЭ 50, 35—38.
- Соколов и др. 1977: Соколов С.Я., Связева О.А., Кубли В.А., Скворцов А.К., Грудзинская И.А., Огуреева Г.Н. 1977. Ареалы деревьев и кустарников СССР. Т. 1. Ленинград: Наука.
- Сокольский Н.И. 1969. Античные деревянные саркофаги Северного Причерноморья. Москва: Наука (САИ Г1-17).
- Сокольский Н.И. 1971. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья. Москва: Наука (МИА 178).
- Строков А.А. 2020. Фанагория в эпоху Великого переселения народов: первые радиоуглеродные даты, верификация и обсуждение. МАИЭТ XXV, 43—65.
- Строков и др. 2022: Строков А.А., Камелина Г.А., Мамонова А.А. 2022. Текстиль раннесредневековых могильников Крыма. КСИА 268 (в печати).
- Тишкин А.А., Мыльников В.П. 2008. Деревянные изделия из кургана 31 памятника Яломан II на Алтае. Археология, этнография и антропология Евразии 1, 93—102.
- Тишкин А.А., Мыльников В.П. 2016. Деревообработка на Алтае во II в. до н.э. — V в. н.э. (по материалам памятников Яломан-II и Бош-Туу-I). Барнаул: Алтайский университет.
- Тарабардина О.А. 2007. Дендрохронология средневекового Новгорода (по материалам археологических исследований 1991—2005 гг.): дисс. ... канд. ист. наук. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова.
- Филин В.Р., Сутягина П.А. 2013. Остатки древесины в курганных погребениях эпохи бронзы СевероЗападного Прикаспия (на юго-востоке Ростовской области, в Калмыкии и Ставропольском крае). В: Белинский А.Б. (отв. ред.). Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Археология, краеведение, музееведение 11. Москва: Памятники исторической мысли, 169—180.
- Хайрединова Э.А. 2003. Обувные наборы V—VII вв. из юго-западного Крыма. МАИЭТ X, 125—160.
- Хайрединова Э.А. 2020. Деревянные гребни из Эски-Кермена. МАИЭТ XXV, 295—312.
- Хатер Д. 1999. Использование дерева в Средневековом Новгороде. Предварительные результаты. ННЗ 13, 46—57.
- Юрочкин В.Ю. 2013. «Готский» и «славянский» вопросы в послевоенном Крыму. В: Сорочан С.Б. (гл. ред.). 'PmjuaToç: сборник статей к 60-летию проф. С.Б. Сорочана. Нартекс. Byzantina Ukrainensi. Т. 2. Харьков: Майдан, 392—413.
- Akkemik U., Yaman B. 2012. Wood anatomy of Eastern Mediterranean species. Remagen-Oberwinter: Kessel Publishing House.
- Florian M.L.E. 1990. Scope and history of archaeological wood. In: Rowell R.M., Barbour R.J. (eds.). Archaeological wood. Properties, chemistry, and preservation. Advances in Chemistry Series 225. Washington DC: American Chemical Society, 1—32.
- Pankova et al. 2021: Pankova S.V., Makarov N.P., Simpson S.J., Cartwright C.R. 2021. New radiocarbon dates and environmental analyses of finds from 1903 excavations in the eastern plot of the Tashtyk cemetery of Oglakhty. Сибирские исторические исследования 3, 24—59.
- Reimer et al. 2020: Reimer P., Austin W., Bard E., Bayliss A., Blackwell P., Bronk Ramsey C., Butzin M., Cheng H., Edwards R., Friedrich M., Grootes P., Guilderson T., Hajdas I., Heaton T., Hogg A., Hughen K., Kromer B., Manning S., Muscheler R., Palmer J., Pearson C., van der Plicht J., Reimer R., Richards D., Scott E., Southon J., Turney C., Wacker L., Adolphi F., Büntgen U., Capano M., Fahrni S., Fogtmann-Schulz A., Friedrich R., Köhler P., Kudsk S., Miyake F., Olsen J., Reinig F., Sakamoto M., Sookdeo A., Talamo S. 2020. The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0— 55 cal kBP). Radiocarbon 62, 725—757.
- San-Miguel-Ayanz et al. 2016: San-Miguel-Ayanz J., de Rigo D., Caudullo G., Houston Durrant T., Mauri A. 2016. European forest tree species. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- Shishlina et al. 2014: Shishlina N.I., Kovalev D.S., Ibragimova E.R. 2014. Catacomb culture wagons of the Eurasian steppes. Antiquity 88, 378—394.