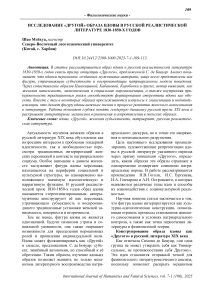Исследование «Другой» образа вдовы в русской реалистической литературе 1830–1850-х годов
Автор: Шао М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 7-1 (106), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается образ вдовы в русской реалистической литературе 1830-1850-х годов сквозь призму концепции «Другого», предложенной С. де Бовуар. Анализ показывает, что вдовьи персонажи, созданные мужчинами-авторами, чаще всего представлены как фигуры, утрачивающие субъектность и воспроизводящие патриархальные модели поведения. Через сопоставление образов Пшеницыной, Кабановой, Коробочки и других, автор выявляет, как женская зависимость, экономическая и социальная маргинализация, а также внутренняя приверженность традиционным ролям способствуют формированию стереотипа вдовы как объекта. Вместе с тем в некоторых образах прослеживаются импульсы к эмансипации и индивидуализации, что делает фигуру вдовы важным звеном в процессе развития женского самосознания в литературе. Работа позволяет глубже понять гендерную динамику русской прозы XIX века и раскрывает литературные механизмы ограничения и сопротивления в женских образах.
Вдова, «другой», женская субъектность, патриархат, русская реалистическая литература
Короткий адрес: https://sciup.org/170210739
IDR: 170210739 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-1-109-113
Текст научной статьи Исследование «Другой» образа вдовы в русской реалистической литературе 1830–1850-х годов
Актуальность изучения женских образов в русской литературе XIX века обусловлена как возросшим интересом к проблемам гендерной идентичности, так и необходимостью пересмотра традиционных интерпретаций женских персонажей в контексте патриархального социума. Особое внимание в данном контексте заслуживает фигура вдовы персонажа, находящегося на периферии социальной и культурной структуры, но одновременно выполняющего значимую идеологическую и нарративную функцию. В русской реалистической прозе 1830-1850-х годов образ вдовы оказывается стереотипизированным: авторы-мужчины конструируют её как персонажа, утрачивающего субъектность и воспроизводящего традиционные установки женской зависимости, покорности и вторичности.
Тем не менее, фигура вдовы не является однозначной. Будучи символом утраты и социальной уязвимости, она также открывает возможности для преодоления нормативных ролей и проявления индивидуальной воли. Вдова может функционировать как «Другой» в смысле, предложенном С. де Бовуар: субъект, лишённый автономии, но способный к её обретению. Таким образом, изучение вдовьих образов позволяет выявить не только механизмы литературного воспроизводства патри- архального дискурса, но и точки его напряжения и потенциального разрушения.
Цель настоящего исследования проанализировать художественные репрезентации вдовы в русской литературе указанного периода через призму концепции «Другого», определить, каким образом эти образы отражают и одновременно подвергают сомнению патриархальные нормы. В работе рассматриваются произведения Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, И.А. Гончарова и А.Н. Островского, в которых выявляются различные типы вдов и способы их взаимодействия с социокультурной реальностью.
Научная новизна статьи заключается в том, что фигура вдовы интерпретируется как культурно-идеологическая конструкция, позволяющая отразить процессы становления женского самосознания в условиях патриархального контроля, а также как точка пересечения литературы и феминистской теории.
Конструирование образа вдовы как «Другого» в русской литературе XIX века
Как отмечала Симона де Бовуар, «ни одна группа не может утвердить себя как Универсальное, не противопоставив себя Другому». Эта идея становится отправной точкой для феминистского литературоведческого анализа, поскольку позволяет раскрыть механизмы символического и социального подчинения, действующие в культуре и литературе. Концепция «Другого» предполагает существование субъекта, лишённого собственной агент-ности, автономии и права на определение себя субъекта, чьё бытие возможно лишь в рамках, очерченных внешней по отношению к нему силой, чаще всего властью, сосредоточенной в мужских руках.В условиях многовекового господства патриархальных норм женские персонажи в литературе, как правило, предстают не как самостоятельные субъекты, а как отражения мужских ожиданий, ценностей и проекций [1]. Женщина в таких текстах – это не активная деятельница, а пассивный объект, обслуживающий сюжетные, эмоциональные и моральные нужды мужских персонажей. Образ вдовы в этом контексте приобретает особую значимость: потеряв мужа и формально получив свободу, героиня по-прежнему остаётся в границах патриархального порядка, будучи лишённой подлинной субъектности.
В русской реалистической литературе 1830-1850-х годов фигура вдовы чаще всего оказывается маргинализированной. Её присутствие в тексте нередко ограничено ролью второстепенного персонажа, выполняющего служебную функцию, будь то хранительница быта, надзирательница за младшими или проводница традиции. Даже утратив прямую зависимость от мужчины, вдова, как правило, продолжает воспроизводить и поддерживать существующую систему, интериоризируя патриархальные установки и выступая носителем нормативного уклада.
Во-первых, вдова в литературе нередко оказывается в роли замещающего мужскую власть субъекта. Получая формальный контроль над хозяйством, имением или социальной группой, она, однако, не выходит за рамки установленного порядка и не инициирует подлинную трансформацию женского положения в обществе. Её власть, как правило, носит репродуктивный характер она лишь поддерживает и воспроизводит существующую иерархию. Так, героиня поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души» Коробочка, несмотря на самостоятельное ведение дел, демонстрирует ограниченность мышления и полное следование устоявшимся нормам. Аналогично, помещица из рассказа И.С. Тургенева «Муму», обладая административным и экономическим ресурсом, использует его в русле авторитарного управления, не ставя под сомнение социальные установки. Ещё более ярко это проявляется в образе Марфы Кабановой из «Грозы» А.Н. Островского, которая реализует власть в семье посредством давления, страха и принуждения, тем самым укрепляя патриархальную парадигму, а не подрывая её изнутри.
Во-вторых, фигура вдовы в русской литературе рассматриваемого периода часто ассоциируется не с освобождением и возможностью построения новой, самостоятельной жизни, а, напротив, с сохранением и даже усилением зависимости прежде всего экономической и социальной. Несмотря на формальное обретение свободы после смерти супруга, вдовы в литературных произведениях продолжают воспринимать мужчину как единственный возможный источник защиты, устойчивости и самоопределения. Их жизненные стратегии направлены не на обретение автономии или пересмотр привычных ролей, а на возвращение в традиционные формы зависимости. Так, героини романов И.А. Гончарова и А.И. Герцена Пшеницына (Обломов) и Юлия (Обыкновенная история) несмотря на самостоятельный социальный статус, демонстрируют внутреннюю приверженность патриархальной системе ценностей [2]. Они не стремятся к независимости, самореализации или критическому осмыслению своего положения. Напротив, любовь и повторное замужество рассматриваются ими как высшая жизненная цель и средство восстановления утерянного порядка.
В-третьих, в художественной традиции нередко закрепляется устойчивый стереотип вдовы как «злой свекрови» женщины, оказывающей репрессивное влияние на младшее поколение, особенно на молодых девушек. Такие образы можно обнаружить, например, в фигурах Марфы Кабановой из пьесы А.Н. Островского Гроза и помещицы из рассказа И.С. Тургенева Муму. Оба персонажа реализуют власть в рамках семейной или социальной иерархии через жёсткий контроль, принуждение и ограничение свободы других женщин. При этом они не осознают собственной встроенности в патриархальную систему и воспроизводят её установки, выступая как ретрансляторы нормативного женского пове- дения и инструмент угнетения внутри женского круга.
Таким образом, образ вдовы в русской литературе XIX века демонстрирует устойчивую тенденцию к её репрезентации как «Другого» фигуры, лишённой агентности и встроенной в патриархальные структуры. Это отражает не только литературные, но и социокультурные установки эпохи, требующие критического переосмысления в контексте современного гуманитарного знания.
Прообразы женского пробуждения в образах вдов русской прозы 1830–1850-х годов
Несмотря на устойчивое воспроизводство патриархального миропорядка в русской литературе первой половины XIX века, в произведениях реалистического направления 18301850-х годов начинают появляться отдельные художественные импульсы, свидетельствующие о переосмыслении традиционных женских ролей. Образы вдов, представляющие собой сложный симбиоз социальной маргинальности и культурной нормативности, в ряде случаев демонстрируют признаки пробуждающегося индивидуального сознания, стремления к самостоятельности и критического восприятия предписанных обществом функций. Хотя такие героини всё ещё сохраняют черты «Другого» зависимого, второстепенного субъекта, в их поведении и мотивации намечаются подвижки, указывающие на потенциальное расхождение с традиционной моделью женственности.
Характерным примером может служить образ Пшеницыной в романе И.А. Гончарова Обломов. Эта героиня, вдова и мать, предстаёт не в роли самоотверженной воспитательницы, а как женщина, сознательно отстраняющаяся от выполнения материнского долга. Её решение передать сына на воспитание в семью Штольца можно рассматривать как акт отчуждения от социальной роли, навязанной патриархальной моделью, и одновременно как проявление стремления к личностной дистанции и внутренней автономии [3]. В условиях ограниченного пространства быта Пшеницы-на тем не менее демонстрирует элементы самодостаточного существования.
Более ярко выраженное стремление к самостоятельности находит воплощение в образе Елены из романа И.С. Тургенева Накануне. Потеряв супруга, героиня не замыкается в пределах частной сферы, а предпринимает активный шаг отправляется на Балканы в качестве сестры милосердия. Этот выбор символизирует не только выход за рамки домашнего пространства, но и движение к социальной значимости, осознанному выбору жизненного пути. В фигуре Елены реализуется идея внутренней самоценности и зарождающейся женской субъектности, что позволяет рассматривать её образ как прообраз эмансипированной женщины в русской литературе середины XIX века.
Ценность и осмысление образа вдовы в литературе русского реализма
В русской реалистической прозе 18301850-х годов фигура вдовы занимает особое место в системе женских персонажей. Хотя такие образы формируются преимущественно в рамках мужского авторского дискурса и продолжают воспроизводить патриархальные установки эпохи, они одновременно становятся важными индикаторами социального и культурного положения женщины в обществе. Потеря супруга для литературной вдовы не означает автоматического обретения свободы или выхода за пределы предписанных ролей. Напротив, она часто становится поводом к усилению социальной и экономической уязвимости, что приводит к ещё большей зависимости героини от внешних, преимущественно мужских, структур власти.
Экономическая нестабильность, с которой сталкиваются вдовы в художественных текстах, нередко формирует у них прагматичное, рационализированное восприятие действительности. Однако такое поведение не обязательно свидетельствует о стремлении к независимости скорее, это вынужденная адаптация к жестким условиям существования в рамках традиционного уклада [4]. Вдовы часто оказываются замкнутыми в пределах частного, домашнего пространства, лишёнными доступа к сфере интеллектуального труда, общественной активности или образования. Даже при наличии формальной свободы от брака героини продолжают ориентироваться на брак как основную цель, что свидетельствует о глубоко укоренённой внутренней приверженности патриархальным нормам.
Значимым элементом патриархального воспроизводства в образах вдов выступает их роль в семейной иерархии как правило, через контроль над младшим поколением женщин. Например, Пшеницына и Кабанова продол- жают транслировать установки подчинения и зависимости, тем самым невольно закрепляя систему угнетения. Однако в ряде случаев в этих образах можно зафиксировать признаки зачаточного женского самосознания, попытки к дистанцированию от навязанных ролей, пусть и на уровне внутренних конфликтов или сомнений. Анализ вдовьих персонажей позволяет глубже понять механизмы культурного и гендерного контроля, функционирующие в русской литературе XIX века, а также оценить потенциальные направления для формирования женской субъектности в условиях патриархального дискурса. В этом контексте фигура вдовы приобретает особую ценность как символ пограничного состояния между традицией и возможностью перемен.
Заключение
Проведенное исследование образа вдовы в русской реалистической литературе 18301850-х гг. через призму концепции «Другого» С. де Бовуар позволило выявить его фундаментальную амбивалентность как культурноидеологической конструкции. С одной стороны, анализ персонажей (Коробочка, Кабанова, Пшеницына и др.) однозначно демонстрирует доминирующую тенденцию к репрезентации вдовы как маргинализированной фигуры, лишенной подлинной субъектности. Мужской авторский дискурс конструирует её в рамках патриархальной парадигмы: утратив супруга, героиня сохраняет экономическую и социальную зависимость, интериоризирует традиционные гендерные роли (матери, хозяйки, «злой свекрови») и активно воспроизводит существующий порядок, часто выступая ин- струментом контроля над младшими женщинами. Её «инаковость» проявляется в потере голоса, ограничении пространством дома и восприятии себя через призму мужских ожиданий (повторный брак как высшая цель).С другой стороны, исследование выявило зарождающиеся в отдельных образах (Пшени-цына И.А. Гончарова, Елена И.С. Тургенева) импульсы к преодолению нормативности. Эти персонажи, оставаясь в границах «Другого», демонстрируют элементы прагматичной самостоятельности, стремление к внутренней автономии или сознательный выход за пределы приватной сферы ради социально значимой деятельности. Данные импульсы, хотя и не приводящие к полной эмансипации, маркируют точку напряжения в патриархальном дискурсе и становятся прообразом будущего развития женского самосознания в литературе.
Таким образом, фигура вдовы предстает как уникальный пограничный феномен, концентрирующий в себе как механизмы культурного воспроизводства угнетения (экономическая уязвимость, социальная маргинализация, интериоризация норм), так и скрытый потенциал для формирования женской субъектности и критики навязанных ролей. Научная новизна работы заключается в применении феминистской методологии для системного анализа данного архетипа, что углубляет понимание гендерной динамики русской классической прозы и механизмов конструи- рования женственности в условиях патриархата, открывая перспективы для дальнейшего изучения маргинальных женских образов XIX века.