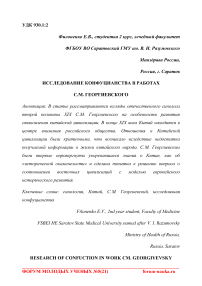Исследование конфуцианства в работах С.М. Георгиевского
Автор: Филоненко Е.В.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 5-3 (21), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются взгляды отечественного синолога второй половины XIX С.М. Георгиевского на особенности развития становления китайской цивилизации. В конце XIX века Китай находится в центре внимания российского общества. Отношения к Китайской цивилизации были критичными, что возникало вследствие недостатка получаемой информации о жизни китайского народа. С.М. Георгиевским были впервые опровергнуты укоренившиеся знания о Китае, как об «исторической окаменелости» и сделана попытка к решению вопроса о соотношении восточных цивилизаций с моделью европейского исторического развития.
Синология, китай, с.м. георгиевский, исследования конфуцианства
Короткий адрес: https://sciup.org/140282993
IDR: 140282993
Текст научной статьи Исследование конфуцианства в работах С.М. Георгиевского
Становление научной синологии как в Европе, так в России приходится на XIX век, одна из самых первых попыток подойти к решению вопроса о своеобразии развития Китая и факторах его устойчивости с научной точки зрения1 принадлежит русскому китаеведу Сергею Михайловичу Георгиевскому. Благодаря активному всестороннему изучению Китайской империи в середине XIX века Георгиевским и другими учеными сформировалась собственно российская школа китаеведения, основными чертами которой стал всесторонний комплексный анализ страны и, что очень важно, исследование первоисточников.
Долгое время Китай оставался для русских и европейцев диковинной страной со своими тайнами и загадками. Георгиевский одним из первых стремился включить Китай в «историю» и показать прогрессивность его развития. В этом отношении взгляды Георгиевского, идеализировавшего Китай, были противоположными представлениям русского путешественника и натуралиста Н.М. Пржевальского, считавшего китайцев «полудиким народом»2. Русский синолог при раскрытии своеобразия исторического развития Китая исходил из предпосылки о подчиненности истории развития китайской цивилизации мировым историко-культурным закономерностям. В 1888 г. вышел труд С.М. Георгиевского «Принципы жизни Китая», а через два года – работа о важности изучения Китайской империи. 3Данные сочинения были названы советским синологом А. А. Петровым «лучшей книгой по идеологии Китая».
С.М. Георгиевский подвергал критическому разбору большую часть заметок военных востоковедов, которые ни разу не посещая непосредственно Китая, имея представления лишь по обстановке на землях окраин Китайской империи, пытались составить заключение обо всей стране целиком, исходя при этом из субъективных выводов и пользуясь зачастую устаревшими фактами из прессы и различных рапортов. Важным замечанием является, что на страницах печатных изданий находила место далеко не вся информация о жизни в Китайской империи в целом. 4
Георгиевский противоречил «шаблонной фразе», что «культура монгольской расы крайне односторонняя по существу своему и давно уже не переходит раз достигнутого предела, между тем как Запад безостановочен в своем движении, и что поэтому история … Востока лишена какого бы то ни было, а тем более научного интереса»5. Взгляды Георгиевского можно определить, как умеренно западнические, синолог признавал значительные успехи западного общества, но не считал их «единственно лучшими» и признавал, что «культура монгольской расы односторонняя»6. Георгиевский подчеркивал, что развитие Китая, «рассматриваемого самого по себе, за последние столетия представляется слишком медленным, как бы несуществующим», однако такое состояние связано с тем, что «прогресс Китая не подвергался тем перерывам, которые следовали за отдельными периодами прогрессивности Запада, и потому менее заметен»7.
В своих трудах Георгиевский первый в русском китаеведение подвергнул сомнению укрепившиеся взгляды на Китай, как на «историческую окаменелость». Включив Китай во всемирную историю, синолог обозначил, что на Китай также распространяются закономерности прогрессивного развития человечества. Ученый отмечает способность китайцев к перениманию достижений европейцев: «Сыны небесной империи, не умаляя и не увеличивая достоинств этой культуры [материально-бытовой культуры европейцев и американцев], склонны усваивать ее, поскольку она способна разнообразить удобства жизни и поскольку применима к натуральным условиям страны». Георгиевский не сомневался, восточные общества, а именно Китай, способны не только принимать его, но и, используя согласно собственным традициям и нуждам, даже превзойти Европу и стать державами западного типа, но с более многочисленным и образованным населением, более сильной армией и более эффективным управлением.
Георгиевский отмечал недостатки европоцентристских принципов работы, ввиду этого стремился показать Китай «полноценным» участником общемирового исторического развития, открыть наиболее значительные «принципы жизни» Китайской империи, соотнести особенности исторического прогресса в европейских странах и в Китае.
С.М. Георгиевский в своих исследованиях стремился добиться двух определенных целей: описать культурные и социальные изменения традиционного китайского общества и раскрыть взаимосвязи исторического процесса, другими словами «показать, каким образом посредством частных эволюций или вопреки им осуществлялся идеал, рисующий лучшего человека, равно как лучшее приспособление культуры к его нуждам»8.
Результатом работы над первой задачей (эволюционное развитие в культурной и социальной жизни) являются два труда9, раскрывающие историю Китая с древнейших времен до III века до н.э. В своих работах Георгиевский одним из первых попытался уйти от событийного пересказа исторических китайских хроник Поднебесной. Синолог признавал, что в связи с недостатком археологических сведений в полной мере воссоздать политическое прошлое древнего Китая пока невозможно, поэтому для восстановления истории культуры Китайской империи, ученый предлагал больше внимания уделять изучению своеобразия сохранившейся китайского языка, китайской литературы и его иероглифической письменности.10 Главный вывод, к которому пришел Георгиевский – невзирая на то, что в Китае надорганическая обстановка крайне прочна и стабильна, однако в ней присутствует тенденция к развитию и застойной ее называть ошибочно.11
После изучения первоначальных идеалистических образов (как отдельного человека, так и общества в целом) во всех направлениях древнекитайской философии, С.М. Георгиевский делает заключение о том, что лишь предложенный Конфуцием абсолют мог стать основой для последующей жизнеспособности китайской цивилизации.12 Отмечая особую роль конфуцианства, Георгиевский писал: «Китайцы, как многомиллионная нация, обладают жизненностью и Китай, как громадная империя, имеет незыблемую устойчивость постольку, поскольку конфуцианство является в этой стране учением господствующим, проведенным и проводимым в жизнь в неизмеримо большей степени, нежели буддизм, даосизм и другие философские системы, - Китай в том виде, в каком мы его знаем, не был бы мыслим без конфуцианства»13.
Сергей Михайлович выделял ряд положительных моментов в конфуцианстве. Во-первых, он обращал внимание на органическую преемственность предшествующих культовых форм. Конфуций без изменения внешних черт прежнего культа предков, внёс им новую этическую первооснову, которая соответствует высоким нравственным нормам.14 Такое новшество подвергло глубокому пересмотру традиции преклонения родителям, только на более высоком уровне. Взяв за основу принцип преемственности, Конфуций установил тем самым для последующих поколений идеал, исходящий из осознания нерушимой внутренней связи с историей страны, что в свою очередь практически исключало волнения и беспорядки, как в Европе15. В то же время именно конфуцианство давало возможность к заимствованию из западной культуры: «Конфуцианство … не только не воспрещает, но и поощряет изучение мира материального, а что касается самих китайцев, то у них найдется достаточно и ума, и фантазии, и самой энергичной настойчивости, чтобы усвоить европейский позитивизм и способствовать его дальнейшему развитию»16.
С.М. Георгиевский в монографии «Важности изучения Китая» указывает на особую роль конфуцианской доктрины для будущего китайского народа. 17Анализируя с определенной долей идеализации воздействие конфуцианства на отмеченные Н.И. Кареевым факторы эволюционного развития, Георгиевский непрекословно признает явную прогрессивную важность предложенной Конфуцием идеологии: «Китай прогрессивен, так как жизнь китайцев направлялась в длинном ряде веков путеводным светом того идеала, который был выяснен и многосторонне раскрыт Конфуцием... Этот идеал является перед нами воплотившимся в жизни современных нам китайцев в весьма значительной степени, что само по себе свидетельствует об успешности исторического прогресса, совершенного народом китайским»18. Подвергая сравнительному анализу европейский и китайский исторические процессы, Сергей Михайлович обращает внимание на такие характерные черты в Китае: во-первых, общекультурный и социальный прогресс Китайской империи в большей степени последователен, нежели западный, во-вторых, в западном мире эволюционная деятельность опиралась на множество различных идеалов, имеющих нередко абсолютно разные основы. В отличие от Европы китайцы во всех сферах жизни неизменно следовали лишь одному конфуцианскому идеалу, к тому же предложенные Конфуцием воззрения обладали определенной преемственностью с более древними нормами китайского общества.19
Причина того, что внутренняя жизнь Китая отличалась постоянством и устойчивостью, в отличие от большинства стран Запада, кроется в том, что китайцы последовательно стремились реализовать один имеющийся идеал, 20 не отвлекаясь на другие цели.
Исходя из изложенных С.М. Георгиевским взглядов на историю Китайского государства, можно сделать вывод, что его работы основываются на представлении об общности исторического прогресса для всех народов мира. Однако данная общность не представляется им как определенная череда сменяющих друг друга культур, где любая из них оказывается только ступенью для последующих, более развитых культур. С.М. Георгиевский не признавал взглядов на историю, присущих философии Г. Гегеля, который называл европейскую цивилизацию вершиной мировой истории. Не привлекала его и предложенная Н.Я. Данилевским теория локальных цивилизаций (хотя в одном из своих сочинений Сергей Михайлович ссылается на «Россию и Европу»). Доводы о том, что любая цивилизация обречена на постепенное увядание и гибель, не были для С.М. Георгиевского убедительны. По его мнению, значительный возраст китайской культуры никак не мешал ей продолжать свое дальнейшее развитие. Принципиальное единство виделось ему в специфике исторического процесса как такового. Возможность личности скептически оценивать условия своего жизнедеятельности, на которой базируется все прогрессивное историческое развитие, характерна как для Востока, так и Европы. И это вовсе не опровергает уникальность и неповторимость каждой отдельной цивилизации. Любой цивилизации присуща своя, исторически сформировавшаяся, социальная и культурная специфика, устанавливающая своеобразие человеческого облика, идеологию социума, а значит и свой особый путь исторического развития.
-
20 Суворов В.В. Князь Эспер Эсперович Ухтомский: общественно-политическая деятельность и идейное наследие. Саратов, 2014. с. 133-135.
Список литературы Исследование конфуцианства в работах С.М. Георгиевского
- Березанская Л.В. Особенности развития китайской цивилизации в исторической концепции С.М. Георгиевского // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 294. с. 144
- Георгиевский С.М. Мифические воззрения и мифы китайцев. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1892. с. 144-145;
- Георгиевский С.М. Анализ иероглифической письменности китайцев как отражающей в себе историю жизни древнего китайского народа. СПб., 1888. с. 35-36;
- Георгиевский С.М. Первый период китайской истории. СПб.: печ. А. Григорьева, 1885. с. 255-260;
- Георгиевский С.М. Принципы жизни Китая. СПб.: А.Я. Панафидин, 1888. с. 122-155;
- Георгиевский С.М. Важность изучения Китая. СПб.: тип. И.Н. Скороходова, 1890. с. 186-195;
- Суворов В.В. Формирование положительного образа Востока в Российском образованном обществе во второй половине XIX - начале XX вв. Саратов., 2017. с. 42-47
- Ухтомский Э. Э. К событиям в Китае. Об отношении Запада и Востока к России. СПб., 1900. с. 77-78;
- Пржевальский Н.М. От Кяхты на истоки Желтой реки. с. 156;
- Суворов В.В. Князь Эспер Эсперович Ухтомский: общественно-политическая деятельность и идейное наследие. Саратов, 2014. с. 133-135;
- Суворов В.В. Место «восточничества» в российской общественной мысли // Власть. 2012. № 12. с. 78-80
- Суворов В.В. Восточная медицина как фактор увлечения Востоком в российском обществе в конце XIX - начале ХХ вв. // Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2014. Т. 4. № 3. с. 216-217
- Суворов В.В. Князь Э.Э. Ухтомский о государственном устройстве России в период революции 1905-1907 гг. // Власть. 2011. № 1. с. 137-139
- Суворов В.В. Политические убеждения Э. Э. Ухтомского // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2011. Т. 11. № 2-2. с. 31-34
- Андриянова Е.А., Ермолаева Е.В., Суворов В.В., Фахрудинова Э.Р. Универсальная мудрость Востока. Саратов, 2013. Раздел «Россия и Восток: концептуализация сближения»;
- Суворов В.В., Живайкина А.А., Фахрудинова Э.Р. Национально-культурные задачи в системе образования России ценностные принципы конфуцианства (вторая половина XIX - начало XXI века)// Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. С. 219.
- Суворов В.В. «Восточничество» Э.Э. Ухтомского и историческая память // История: электронный научно-образовательный журнал. 2012. Вып. 1(9):Историческая память: люди и эпохи, специальный выпуск по результатам научной конференции, проведенной совместно Историческим факультетом Государственного академического университета гуманитарных наук и Институтом всеобщей истории Российской академии наук 25-27 ноября 2010 г. URL: http://mes.igh.ru/magazine/content/vostochnichestvo-uhtomskogo.html.