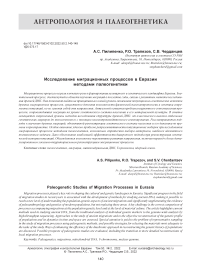Исследование миграционных процессов в Евразии методами палеогенетики
Автор: Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Черданцев С.В.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Антропология и палеогенетика
Статья в выпуске: 2 т.50, 2022 года.
Бесплатный доступ
Миграционные процессы играли ключевую роль в формировании культурного и генетического ландшафта Евразии. Значительный прогресс, достигнутый в области изучения миграций в последние годы, связан с развитием методов исследования древней ДНК. Они позволяют выйти на принципиально новый уровень понимания популяционно-генетических аспектов древних миграционных процессов, существенно дополняя возможности физической палеоантропологии и генетики современных популяций, но не заменяя собой эти направления. Актуальной остается проблема корректного сопоставления процессов, сопровождавших миграции на уровне генетического состава населения и его материальной культуры. В статье освещается современный уровень методов исследования структуры древней ДНК: от классического анализа отдельных генетических маркеров до полногеномного с помощью высокопроизводительного секвенирования. Рассматриваются подходы к изучению древних миграций, объективной реконструкции генетического состава населения и его динамики во времени и пространстве. Особое внимание уделено проблеме репрезентативности популяционных выборок при исследовании миграционных процессов методами палеогенетики, возможным стратегиям выбора материала, наиболее адекватного поставленным задачам. Дано обоснование наибольшей эффективности диахронного подхода при реконструкции генетической истории популяций. Обсуждаются возможные перспективы развития направления, включая переход к более детализированным локально-территориальным реконструкциям миграционных процессов.
Палеогенетика, миграции, митохондриальная днк, y-хромосома, ядерный геном
Короткий адрес: https://sciup.org/145146529
IDR: 145146529 | УДК: 575.17 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.2.140-149
Текст научной статьи Исследование миграционных процессов в Евразии методами палеогенетики
Миграции играли важнейшую роль на протяжении всей истории человечества. Ключевые миграционные события, определившие генетический облик значительной части современного населения, происходили на территории Евразии: от первоначального расселения Homo sapiens из Африки до массового переселения многочисленных групп в эпоху ранних кочевников. Исследования генетической структуры современных популяций методами этногеномики позволили реконструировать основные этапы и маршруты заселения Евразийского континента, оценить роль изоляции и последующих миграций в формировании специфики генофонда населения отдельных регионов [Jobling, Tyler-Smith, 2003; Torroni et al., 2006; Underhill, Kivisild, 2007]. Реконструкции событий прошлого по их конечному результату (генетической структуре современных популяций) обычно подразумевают несколько альтернативных сценариев одного события. Методы археологии и палеоантропологии позволяют независимо исследовать те же самые процессы путем непосредственного изучения древнего населения. Развитие палеогенетики дало возможность распространить инструментарий этногеномики на исследование древних популяций и объединить все перечисленные направления в единый комплексный подход, обеспечивающий новый уровень достоверности реконструкции миграционной истории.
Роль палеогенетики часто заключается в проверке гипотез, сформулированных по результатам археологических, антропологических и этногенетических исследований. Основной стратегией долгое время было изучение минимального объема материала для реконструкции наиболее масштабных миграционных процессов. Успешными примерами реализации такого подхода являются серии работ, посвященных взаимодействию анатомически современного человека с другими поздними гоминидами при расселении на Евразийском континенте [Reich et al., 2010; Pääbo, 2015; Krause, Pääbo, 2016; Vernot, Pääbo, 2018], динамике генетического состава населения Европы, связанной с последним ледниковым максимумом и «неолитической революцией» [Haak et al., 2010; Pinhasi et al., 2012; Lazaridis, 2018; Liu et al., 2021], масштабным миграционным процессам в Евразии в эпоху бронзы [Haak et al., 2015; Allentoft et al., 2015] и раннем железном веке [Unterländer et al., 2017; Krzewińska et al., 2018]. Результаты этих исследований преимущественно представляют собой лишь предварительные реконструкции. К сожалению, далеко не всегда они находят продолжение в сериях локально ориентированных работ, по священных детализации предварительных моделей.
При этом современный уровень развития методов палеогенетики делает беспрецедентно доступным получение большого объема сведений о генетическом составе древних популяций. В данной работе обсуждается назревшая необходимость перехода к систе-матиче скому исследованию генетической структуры локальных групп населения различных регионов Евразии с использованием имеющихся палеогенети-ческих инструментов. Особое внимание уделяется принципам формирования репрезентативных выборок с учетом археологического и антропологического контекста анализируемых материалов, стратегиям их генотипирования и интерпретации результатов, а также наметившимся перспективам в этой области.
Миграции человека и подходы к их изучению
В настоящее время Homo sapiens – вид-космополит, о своивший абсолютное большинство территорий нашей планеты, хоть сколько-нибудь пригодных для его жизни. Это подразумевает высокую роль миграций при первичном освоении людьми огромных про странств с разнообразными природно-климатическими условиями. К данному типу миграционных процессов следует относить и достаточно многочисленные в истории человечества случаи репопуляции (повторного заселения) отдельных регионов, например Центральной и Северной Европы с отступлением ледников после последнего ледникового максимума.
После первоначального заселения ареала роль миграционных потоков на популяционном уровне не ослабевает. При этом в результате миграций происходит уже не расширение ареала, а контакты между группами населения из различных его частей, изолированных друг от друга географическими и другими факторами. В таких миграционных процессах принимают участие как минимум две популяционные группы: мигранты, совершающие перемещение из одного района в другой, и автохтонное население территории, на которой мы фиксируем миграционный приток. В этом случае полноценное исследование помимо доказательства самого факта миграции должно включать реконструкцию этнокультурного взаимодействия между мигрантами и аборигенами. Его характер на популяционно-генетическом уровне определяет значение миграционного события для генетической истории региона.
Основу для постановки задач исследования миграций создает анализ материальной культуры древнего населения региона методами археологии, позволяющий проследить этапы ее развития и зафиксировать эпизоды, которые могут быть связаны с миграцион- ными потоками. С точки зрения археологии, такие периоды, как правило, сопряжены с появлением в материальной культуре (в широком смысле) новаций. В результате возникает один из ключевых вопросов: связано ли это с миграционными процессами, или распространение новаций происходило без существенной роли мигрантов [Meiggs, Freiwald, 2018].
Поскольку миграция подразумевает перемещение определенной группы населения, т.е. является популяционно-демографическим процессом, единственный прямой способ ее изучения – анализ биологических останков представителей популяций, связанных с конкретным миграционным событием. Всестороннее исследование палеоантропологических материалов с применением многочисленных методов и подходов формирует область биоархеологии [Ibid.]. Основными биоархеологическими направлениями изучения миграционных событий являются физическая антропология, палеогенетика, анализ изотопов и микро-элементного состава, причем первые два особенно эффективны для исследования на популяционном уровне. Важно подчеркнуть, что перечисленные био-археологические направления анализируют системы признаков (маркеры), не связанные напрямую друг с другом. Это позволяет при комплексном подходе получить независимые наборы свидетельств миграционного процесса и более объективные итоговые реконструкции.
Эффективность использования собственно палео-генетических методов для реконструкции древних миграционных процессов популяционного уровня зависит от двух основных факторов: корректного отбора материалов для исследования (формирование репрезентативных выборок); выбора информативных генетических маркеров, метода их генотипирования и соответствующей стратегии интерпретации данных.
Формирование репрезентативных выборок образцов для исследования миграций методами палеогенетики
Полноценная реконструкция популяционно-генетических аспектов миграционного события методами палеогенетики подразумевает решение нескольких взаимосвязанных задач: 1) фиксацию изменения генетического состава популяции, которое может быть обусловлено притоком нового населения; 2) локализацию региона – источника миграционного потока; 3) определение масштабно сти последнего, особенностей гендерного состава мигрантов, характера и интенсивности их генетических взаимоотношений с аборигенами в период миграции; 4) оценку вклада мигрантов в генетический состав населения регио- на более поздних хронологиче ских этапов. Ситуации, когда возможно решение всех перечисленных вопросов, крайне редки, как правило, из-за отсутствия адекватного палеобиологического материала, потенциально пригодного для анализа методами палеогенетики. Для исчерпывающей реконструкции необходимы данные о генетической структуре целой серии групп древнего населения, в т.ч. проживавших в регионе до начала рассматриваемого миграционного события (чтобы на их фоне выявить изменение генетического состава в результате миграции), популяции, относящейся к периоду миграции (может включать взаимодействующих мигрантов и аборигенов), и групп, сформировавшихся уже за рамками активной фазы миграционного процесса. Они представляют диахронную выборку населения исследуемого региона, анализ которой является одним из наиболее информативных как для реконструкции генетической истории региона в целом, так и для изучения миграций в частности.
Дополнительно для определения источника мигрантов необходимо также сравнение привнесенных генетических компонентов со специфичными составляющими генофонда древнего населения потенциальных территорий – истоков миграции. Круг последних может быть значительно сужен на основе археологиче ских и антропологических данных о направлениях этнокультурных контактов исследуемых групп. Из-за слабой изученности генофонда древних популяций во многих районах Евразии сравнительный анализ с указанными археологами/ антропологами группами требует их целенаправленного исследования. Поэтому для предварительного поиска источника мигрантов проводят их сравнение с ранее изученными популяциями. Такое вынужденное использование палеогенетиками не всегда наиболее адекватных (но единственных имеющихся) сравнительных данных часто вызывает скептическое отношение археологов/антропологов к полученным выводам. Эти предварительные результаты подразумевают проверку и существенное уточнение в процессе последующих целенаправленных дополнительных исследований. Например, полученные данные об отдельных группах носителей ямной культуры как об источниках миграционного влияния степных популяций Восточной Европы на население сопредельных регионов в эпоху ранней бронзы [Allentoft et al., 2015; Haak et al., 2015] следует рассматривать как свидетельство в пользу влияния со стороны восточно-европейских степных популяций в широком понимании. Реальными источниками мигрантов могли быть другие популяции региона, относительно схожие с «ямниками» генетически, но еще не исследованные. Подобная ситуация сложилась с использованием носителей пазырыкской культу- ры Алтая и классических скифов Северного Причерноморья в качестве «эталонных» сравнительных групп при оценке миграционного влияния ранних кочевников восточной и западной части степного пояса Евразии соответственно [Unterländer et al., 2017; Krzewińska et al., 2018], хотя ранние кочевники этих регионов очень разнообразны.
В условиях слабой изученности древнего населения для грубой локализации источника миграции часто могут быть полезны данные о генофонде современных коренных народов, хорошо исследованных в большинстве регионов. При этом методы филогенетики и филогеографии позволяют сделать некоторые корректные выводы при сравнении популяций различных эпох и оценить роль мигрантов в последующей генетической истории исследуемой территории.
Помимо слабой археологической изученно сти некоторых районов Евразии, затруднения в формировании репрезентативных выборок образцов возникают в регионах с неблагоприятными для сохранности ДНК в останках климатическими условиями: на рассматриваемой территории ДНК в среднем лучше сохраняется в высоких широтах, чем в южных (исключение – высокогорные области). При этом многие ключевые миграционные процессы протекали именно в южных районах. Несмотря на появление отдельных успешных палеогенетических исследований на материалах из «неблагоприятных» регионов (благодаря развитию методов), можно ожидать сохранения дисбаланса в степени палеогенетической изученности древнего населения между северными (умеренными) и южными регионами материка.
При подборе материалов важно, чтобы в выборки были включены индивиды, принадлежность которых к исследуемой древней этнокультурной группе несомненна. Даже в составе одного могильника зачастую присутствуют комплексы как с ясной культурной атрибуцией, так и вызывающие сомнение из-за отсутствия датирующего инвентаря. Помимо корректной культурной атрибуции стандартом для крупных па-леогенетических исследований становится прямое датирование останков, особенно актуальное для многослойных или синкретичных памятников.
В условиях недо статка исследованных материалов палеогенетики усиливают возможности характеризовать миграционные процессы за счет разработки методов статистического анализа неполных палеоге-нетических данных и построения моделей на их основе (см., напр.: [Loog et al., 2017]); учета результатов, полученных специалистами смежных дисциплин, т.е. использования нескольких независимых линий аргументации [Meiggs, Freiwald, 2018]; варьирования спектра анализируемых маркеров и более глубокого их анализа [Orlando et al., 2021].
Генетические маркеры для исследования миграционных событий, стратегии их генотипирования и интерпретации результатов
В результате совокупного действия таких факторов, как появление мутаций, дрейф генов, относительная генетическая изоляция или интенсивный обмен генами с другими популяциями, естественный отбор, прохождение через «бутылочные горлышки» (периоды резкого сокращения и последующего роста численности), эффект основателя, популяции человека приобретают специфичность структуры генофонда. Мигранты переносят генетические компоненты, характерные для населения территории – источника миграционного потока, в генофонд автохтонного населения. Сложность выявления притока генов зависит, в частности, от уровня генетической контрастности мигрантов по отношению к аборигенам: чем сильнее различия, тем легче определить новые генетические компоненты в аборигенной популяции. Поскольку в масштабах Евразии зафиксирована клинальная генетическая изменчиво сть популяций, как правило, соблюдается зависимость: чем географически дальше источник миграционного потока от его конечной точки, тем более генетически контрастно пришлое население по отношению к автохтонному. Еще одним фактором, влияющим на возможность обнаружения генетических последствий миграции, является численность мигрантов: чем она выше, тем больше шансов выявить эти последствия. Обозначенные факторы усиливают друг друга: чем более генетически контрастны мигранты по сравнению с аборигенами, тем меньшие по масштабам миграционные потоки могут быть зафиксированы палеогенетическими методами. Одними из первых успешно исследованных стали миграции носителей ранних навыков животноводства и земледелия с Ближнего Востока на территорию Европы в период «неолитической революции» и наиболее масштабные миграционные события в эпоху бронзы [Allentoft et al., 2015; Haak et al., 2010; Pinhasi et al., 2012; Lazaridis, 2018].
Оценка различий генетической структуры популяций сильно зависит от используемых инструментов анализа генофонда. Современные методы палеогенетики позволяют варьировать как спектр исследуемых молекулярно-генетических маркеров, так и глубину анализа каждого из них. Методами, основанными на полимеразной цепной реакции (ПЦР), можно анализировать структуру лишь относительно небольшого числа таких маркеров для каждого образца древней ДНК [Pääbo et al., 2004]. Благодаря развитию высокопроизводительного секвенирования (Next-Generation Sequencing – далее NGS), позволяющего параллель- но считывать последовательности огромного количества фрагментов ДНК, удалось значительно приблизить генетическую информативность палеообразцов к современной ДНК, т.к. потенциально стал возможен анализ «полного» (условно) генома представителя древнего населения [Stoneking, Krause, 2011; Veeramah, Hammer, 2014; Orlando et al., 2021]. Поэтому можно выделить две актуальные для палеогенетики стратегии исследования структуры генофонда популяции: анализ отдельных маркеров, имеющих наибольшее филогенетическое и филогеографиче-ское разрешение [Underhill, Kivisild, 2007]; генотипирование множества филогенетически независимых маркеров, каждый из которых имеет ограниченную филогенетическую и филогеографическую информативность, с последующей совокупной интерпретацией на основе построения сложных моделей.
Филогенетически и филогеографически информативные локусы как инструмент исследования древних миграций человека
Филогенетически информативными являются маркеры, для которых можно реконструировать их генетическую историю начиная от общего предка до современного разнообразия структурных вариантов. Эту историю в генетических исследованиях, как правило, наглядно представляют в виде филогенетических деревьев. Такие маркеры, используемые для реконструкции миграционных потоков, должны характеризоваться достаточно высокой степенью вариабельности, чтобы быть филогеографически информативными, т.е. структурные варианты, объединенные в составе филогенетического дерева, должны иметь специфичное географическое распространение, различаясь в популяциях разного происхождения и ареалов.
К числу наиболее филогенетически и филогеографически информативных отно сятся генетические маркеры с однородительским наследованием: митохондриальная ДНК, которая наследуется только по материнской линии [Torroni et al., 2006], и нерекомбинирующий участок Y-хромосомы, присутствующей в геноме только мужчин и, соответственно, наследуемой по отцовской линии (Non-recombining Region of Y-chromosome – далее NRY) [Underhill, Kivisild, 2007]. Основные свойства этих маркеров как инструментов палеогенетики для реконструкции древних миграций человека, а также их сильные и слабые стороны приведены во многих обзорах [Torroni et al., 2006; Underhill, Kivisild, 2007; Kivisild, 2017]. Важно отметить, что благодаря скорости накопления мутаций и отсутствию рекомбинации мтДНК и Y-хромосома по своему филогенетическому и филогеографиче- скому разрешению многократно превосходят отдельно взятые филогенетические маркеры аутосомного ядерного генома [Underhill, Kivisild, 2007; Jobling, Tyler-Smith, 2017]. Для них построены подробные глобальные филогенетические деревья, отражающие взаимоотношения между всеми известными на сегодняшний день структурными вариантами, и разработана классификация филогенетических кластеров [Karafet et al., 2008; Oven, van, Kayser, 2009]. Накоплены огромные объемы данных об особенностях структуры генофонда мтДНК и Y-хромосомы в современных популяциях человека, хотя аналогичные данные по древним группам населения большинства регионов пока менее репрезентативны.
Важным преимуществом использования мтДНК и Y-хромосомы при исследовании древних миграций является возможность реконструировать их гендерно-связанные особенности, например, оценить представленность женщин и мужчин среди мигрантов, их относительную вовлеченность в процессы генетического взаимодействия с аборигенами. Из недостатков этих маркеров следует отметить большую подверженность дрейфу генов (по сравнению с аутосомным ядерным геномом), что в совокупности с высокой скоростью накопления мутаций (в мтДНК), приводящих к независимому повторному появлению одних и тех же структурных вариантов, снижает эффективность реконструкции миграций, происходивших более чем несколько десятков тысяч лет назад [Underhill, Kivisild, 2007]. Кроме того, для получения репрезентативной выборки, отражающей разнообразие мтДНК и Y-хромосомы в популяции в целом, необходим анализ их структуры в большей по численности серии образцов по сравнению с «полногеномным» анализом аутосомных маркеров [Veeramah, Hammer, 2014].
Митохондриальная ДНК. Она является первым маркером, который был использован для реконструкции генетического прошлого человеческих популяций, включая обоснование африканского происхождения анатомически современного человека [Cann, Stoneking, Wilson, 1987] и установление путей его расселения по территории Евразии. Именно разнообразие мтДНК рассматривалось в первых работах, посвященных исследованию генетической структуры древних популяций методами палеогенетики [Pult et al., 1994]. Эти методы развивались от оценки статуса единичных позиций и секвенирования наиболее информативных фрагментов до анализа полных митохондриальных геномов (митогеномов) [Torroni et al., 2006; Underhill, Kivisild, 2007]. Еще до появления технологий NGS были накоплены огромные объемы данных о вариабельности мтДНК в современных популяциях человека и реконструирована ее исчерпывающая глобальная филогения.
Также были накоплены аналогичные данные по древним популяциям различных регионов Евразии. Появились первые масштабные исследования диахронных выборок образцов мтДНК преимущественно с территории Европы [Pinhasi et al., 2012; Brandt et al., 2013], а также населения эпохи бронзы лесостепной зоны Западной Сибири [Molodin et al., 2012]. Анализ полных митогеномов представителей древних популяций существенно упростился с появлением NGS-методов [Veeramah, Hammer, 2014]. Однако переход ведущих лабораторий на анализ вариабельности ядерного генома привел к ослаблению темпов целенаправленных исследований полных митогеномов древнего населения Евразии на популяционном уровне. Полные митохондриальные геномы в основном получают как побочный продукт при некоторых типах анализа аутосомных ядерных маркеров. Их численность, как правило, недостаточна для репрезентативной оценки структуры генофонда мтДНК в популяции. Таким образом, потенциал, скрытый в масштабных исследованиях диахронных выборок образцов мтДНК разновременных групп населения, так и остается нереализованным для большинства регионов Евразии.
Особенности мтДНК как маркера ярко проявились в исследовании взаимодействия H. sapiens с другими гоминидами в процессе первоначального расселения на территории Евразии. Изучение разнообразия мтДНК неандертальцев не позволило однозначно ответить на вопрос об их участии в формировании генофонда современного населения: сильная подверженность гаплоидных маркеров влиянию случайных факторов, таких как дрейф генов, привела к тому, что в генофонде мтДНК современных людей не осталось свидетельств гибридизации с неадертальцами. По мнению специалистов, хронологического разрешения этого маркера недостаточно для гарантированного сохранения следов процессов такой давности. Митохондриальные данные свидетельствовали лишь о том, что в случае, если гибридизация с неадертальцами происходила, она оказала ограниченное влияние на состав генофонда современного населения планеты [Serre et al., 2004]. Это подтвердилось при исследовании ауто сомных геномов. Позже именно с помощью анализа мтДНК был открыт новый вид поздних представителей рода Homo – денисовский человек [Krause et al., 2010]. Новым направлением успешного использования мтДНК для реконструкции ранних этапов истории человека на территории Евразии стало исследование митогеномов, выделенных из осадочных отложений пещерных стоянок древних гоминидов. Анализ диахронных выборок таких образцов из нескольких пещер позволяет проследить периоды их обитаемости и смену генетического состава населения в результате миграционных событий даже для памятников, на которых отсутствуют палеоантропологические материалы [Vernot et al., 2021].
Нерекомбинирующая часть Y-хромосомы (NRY). Она является потенциально наиболее филогенетически информативным локусом в геноме человека [Underhill, Kivisild, 2007; Kivisild, 2017], что обусловлено большой протяженностью нерекомбириниру-ющего участка и значительным числом полиморфизмов двух типов – медленно эволюционирующих однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) и быстро меняющихся STR-локусов (Short Tandem Repeats). Высокая информативность Y-хромосомы при исследовании миграций объясняется также патрилокальностью многих популяций человека [Burton et al., 1996], которая привела к длительному сохранению в Евразии их фи-логеографической структурированности по особенностям мужского генофонда.
Исследование разнообразия мужского генофонда в современных популяциях человека происходило с задержкой по сравнению с мтДНК из-за сложностей поиска филогенетически информативных позиций в Y-хромосоме [Karafet et al., 2008]. Параллельный анализ полиморфизмов двух типов позволил построить общую филогению и классификацию вариантов (по ОНП), а также оценить разнообразие последних внутри филогенетических кластеров и в генофонде отдельных популяций (STR) [Ibid.; Underhill, Kivisild, 2007]. Была накоплена информация о разнообразии структурных вариантов в современных популяциях в планетарном масштабе, реконструированы основные маршруты расселения человека по Евразии. Отдельным стимулом к накоплению данных по вариабельности Y-хромосомы является их востребованность в криминалистике [Kayser, 2017]. Однако в связи с большой протяженностью NRY, в отличие от мтДНК, до появления методов высокопроизводительного секвенирования была открыта лишь часть филогенетически информативных маркеров Y-хромосомы. Даже исследователи современных популяций оценивали только часть имеющегося структурного разнообразия NRY. Для древних популяций Евразии был получен незначительный объем данных по Y-хромосоме, т.к. ее анализ методами, основанными на ПЦР, сложен и может быть выполнен лишь для образцов с относительно хорошей сохранностью ДНК [Kivisild, 2017]. Появление технологий NGS позволило на современном материале существенно увеличить разрешение филогении Y-хромосомы за счет обнаружения многочисленных ранее неизвестных филогенетически информативных ОНП [Batini, Jobling, 2017; Poznik et al., 2016].
Ввиду отсутствия систематических исследований вариабельности NRY в древних образцах в связи с указанной спецификой маркера накопление палео-генетических данных по Y-хромосоме NGS-методами происходит очень медленно. Широко используемые сейчас палеогенетические подходы – секвенирование полных ядерных геномов с низким покрытием и полногеномный анализ ОНП у древних индивидов – дают возможность получать лишь неполную филогенетическую информацию о структуре Y-хромосомы только для части образцов. При этом число последних недостаточно для получения репрезентативной популяционной картины по мужскому генофонду. Необходимо целенаправленное исследование вариабельности NRY различными доступными методами (основанными на ПЦР и NGS). Важно развитие глубокого секвенирования древних Y-хромосом для уточнения филогении кластеров, которые могут быть не представлены в современных популяциях человека. Таким образом, потенциал исследования вариабельности NRY в древних образцах для реконструкции миграционных потоков остается пока слабо реализованным.
Аутосомные ядерные маркеры. Аутосомная часть ядерного генома у человека представлена в двух копиях, полученных от матери и отца. На нее приходится основная доля всей генетической информации организма. Из-за рекомбинации аутосомные хромосомы представляют собой не единый в филогенетическом отношении маркер, а целую систему таких маркеров, имеющих независимую друг от друга эволюционную историю. Филогенетическое дерево может быть построено только для небольших по протяженности фрагментов аутосомной ядерной ДНК, для которых низка вероятность рекомбинации, нарушающей непрерывную филогению. Структурное разнообразие отдельных ядерных локусов сильно уступает мтДНК и NRY [Veeramah, Hammer, 2014], что снижает их филогенетическое и филогеографи-ческое разрешение.
Аутосомный ядерный геном, который представляет собой огромный набор относительно независимо эволюционирующих маркеров, несущих долю филогенетической информации, меньше подвержен влиянию таких факторов, как дрейф генов, поэтому свидетельства генетических событий даже отдаленного прошлого имеют больше шансов сохраниться в популяции, по сравнению с мтДНК и Y-хромосомой [Ibid.]. Следы новых генетических компонентов, полученных от мигрантов, остаются в ядерном геноме потомков на длительное время. Если структура мтДНК и Y-хромосомы индивида отражает лишь генетическую историю прямых предков по материнской и отцовской (мужской) линиям, то состав компонентов ядерного аутосомного генома – популяционно-генетические процессы множества пересекающихся предковых линий. Поэтому даже индивидуальный ядерный геном в некоторой степени является отражением истории популяции, к которой принадлежит индивид, что снижает численность образцов, необходимую для оценки ее генофонда (по сравнению с мтДНК и NRY). При этом необходимо учитывать генетическую неоднородность состава любой человеческой популяции. Для получения полного представления о генофонде всегда необходим анализ репрезентативной серии геномов. Приток мигрантов способствует увеличению генетической неоднородности популяции, когда в одной группе сосуществуют индивиды разного происхождения. Поэтому при исследовании миграций анализ серийных, а не единичных образцов на геномном уровне еще более актуален.
Таким образом, для реконструкции миграционных процессов необходимо анализировать большое число маркеров аутосомного генома. Методы, основанные на ПЦР, не давали такой возможности даже для современной ДНК. Появление технологий NGS впервые сделало доступным массовый параллельный анализ значительного количества аутосомных маркеров, вплоть до серийного секвенирования полных геномов [Ibid.]. В отличие от мтДНК и NRY, аутосомные маркеры в древних образцах начинали анализировать с помощью NGS почти одновременно с современными геномами. В рамках одного исследования проводили анализ древних и ряда современных образцов для сравнения с населением различных районов Евразии. NGS-методы решили проблему получения первичных данных, но остро встал вопрос об инструментах анализа и интерпретации массовых результатов. К настоящему моменту разработаны алгоритмы и инструментальное программное обеспечение, позволяющие оценивать многочисленные параметры генофонда популяции [Sousa, Hey, 2013; Orlando et al., 2021]. Для исследования миграций особенно важны инструменты, с помощью которых можно сравнивать геномные характеристики индивидов между собой и выделять в геномных данных компоненты, имеющие различное происхождение [Patterson et al., 2012]. Важно, что при наличии репрезентативной сравнительной базы эти компоненты могут быть выявлены как в составе серии геномов из популяции, так и в индивидуальном геноме.
Новые возможности, которые открыл полногеномный анализ аутосомных маркеров, наиболее очевидны на примере реконструкции ранних этапов расселения анатомически современного человека: полногеномные данные привели к смене парадигмы и переходу от теории недавнего африканского происхождения H. sapiens к сценарию, включающему гибридизацию на территории Евразии мигрантов из Африки с поздними гоминидами (как минимум, с неандертальцами и денисовцами), которые, таким образом, приняли участие в формировании генетического состава со- временного населения [Reich et al., 2010; Pääbo, 2015; Krause, Pääbo, 2016; Vernot, Pääbo, 2018]. В последние годы интенсивно проводится реконструкция более поздних миграций и их роли в истории популяций Евразии, в первую очередь Европы. Можно констатировать, что для различных регионов Европейского континента постепенно складываются более или менее репрезентативные полногеномные диахронные модели генофонда населения, анализ которых, несомненно, является лучшим инструментом объективной реконструкции генетического прошлого популяций и роли в нем миграционных потоков [Aneli et al., 2021]. С некоторым отставанием начинают накапливаться данные и по отдельным регионам за пределами Европы [Allentoft et al., 2015; Wang et al., 2021], хотя репрезентативность выборок в большинстве работ недостаточно высокая, что снижает уровень детализации реконструкций. Пока остаются актуальными вызовы, связанные с качеством получаемых данных по структуре древней ядерной ДНК: большая часть результатов представлена либо геномами с очень низким покрытием [Allentoft et al., 2015], либо большими наборами ОНП, рассеянных по всему ядерному геному, а не полными геномами хорошего качества. Требуют дальнейшего усовершенствования инструменты статистического анализа и моделирования огромных объемов полногеномных данных. Полноценная реализация потенциала этого подхода еще впереди.
Заключение
Несмотря на бурное развитие методов палеогенетики, применяемых для реконструкции древних миграционных процессов, можно констатировать, что на данный момент мы все еще находимся на одной из начальных стадий полноценной реализации потенциала данного направления. Из изложенного выше видно, что NGS-методы привели к революционному прогрессу технологических возможностей палеогенетики, изменив роли различных подходов к реконструкции как древних миграционных процессов, так и генетической истории популяций человека в целом. Безусловно, среди инструментов палеогенетического анализа центральное положение будут занимать методы полногеномного анализа с акцентом на аутосомные маркеры, которые позволяют получить доступ к основному объему геномных данных [Orlando et al., 2021]. Помимо их накопления, перспективным является углубленное целенаправленное изучение генофондов древних популяций с точки зрения разнообразия мтДНК и особенно Y-хромосомы, т.к. потенциал этих направлений остается нереализованным. Можно ожидать быстрого аккумулирования палеогенетических данных для различных регионов Евразии, на территории которых присутствует приемлемый для анализа палеоантропологический материал. Это приведет к формированию своего рода системы подробных популяционно-генетических координат, отражающих филогеографиче-ские особенности не только современного населения континента, но и популяций различных эпох.
Наибольшие перспективы связаны с исследованием разновременных групп, объединенных в диахрон-ные модели, которые отражают динамику генетического состава локального населения. Реконструкция миграционных потоков на основе этих моделей наиболее объективна. Быстро пополняемая база сравнительных палеогенетических данных из различных регионов Евразии позволит более точно локализовать источники миграционных потоков, а также доказательно детализировать их маршруты. Важной задачей является устранение неоднородности в репрезентативности данных между Европой и другими регионами. Таким образом, будет выполнен полноценный переход от анализа отдельных групп палеоматериалов для тестирования разрозненных гипотез о генетическом прошлом популяций к масштабному и систематическому исследованию генетической структуры древнего населения. В области реконструкции миграционных потоков перспективным является переход от построения приблизительных моделей наиболее масштабных событий к их тонкой детализации, что требует намного более подробного исследования локально-территориальной специфики генофонда популяций во временной динамике.
Значительная часть всех палеоантропологических материалов, потенциально пригодных для реконструкции миграционных процессов и других аспектов генетической истории населения Евразии, происходит из разновременных археологических памятников России. При условии интенсивного развития имеющихся отечественных центров компетенции в области палеогенетики и палеогеномики и создания на их базе возможностей для проведения полного цикла исследований древней ДНК, российские специалисты могут внести весомый вклад в дальнейшее изучение генетического прошлого северных областей Евразии. С этой целью необходимо интенсифицировать создание банков палеоматериала, охарактеризованного как методами археологии и физической антропологии, так и молекулярно-генетически, что в перспективе станет серьезным конкурентным преимуществом.
Исследование выполнено в рамках проектов РФФИ № 20-19-50316 и РНФ № 17-78-20193.
Список литературы Исследование миграционных процессов в Евразии методами палеогенетики
- Allentoft M.E., Sikora M., Sjogren K.G., Rasmussen S., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlstrom T., Vinner L., Malaspinas A.S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarysz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolar J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Palfi G., Pokutta D., Pospieszny L., Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrcka V., Soenov V.I., Szeverenyi V., Toth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Ponten T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. – Vol. 522. – P. 167–172.
- Aneli S., Caldon M., Saupe T., Montinaro F., Pagani L. Through 40,000 years of human presence in Southern Europe: the Italian case study // Hum. Genet. – 2021. – Vol. 140, iss. 10. – P. 1417–1431. – doi:10.1007/s00439-021-02328-6.
- Batini C., Jobling M.A. Detecting past male-mediated expansions using the Y chromosome // Hum. Genet. – 2017. – Vol. 136, iss. 5. – P. 547–557. – doi:10.1007/s00439-017-1781-z.
- Brandt G., Haak W., Adler C.J., Roth C., Szécsényi-Nagy A., Karimnia S., Möller-Rieker S., Meller H., Ganslmeier R., Friederich S., Dresely V., Nicklisch N., Pickrell J.K., Sirocko F., Reich D., Cooper A., Alt K.W.; Genographic Consortium. Ancient DNA reveals key stages in the formation of central European mitochondrial genetic diversity // Science. – 2013. – Vol. 342, iss. 6155. – P. 257–261. – doi:10.1126/science.1241844.
- Burton M.L., Moore C.C., Whiting W.M., Romney A.K. Regions based on social structure // Curr. Anthropol. – 1996. – Vol. 37. – P. 87–123.
- Cann R.L., Stoneking M., Wilson A.C. Mitochondrial DNA and human evolution // Nature. – 1987. – Vol. 325, iss. 6099. – P. 31–36. – doi:10.1038/325031a0.
- Haak W., Balanovsky O., Sanchez J.J., Koshel S., Zaporozhchenko V., Adler C.J., Der Sarkissian C.S., Brandt G., Schwarz C., Nicklisch N., Dresely V., Fritsch B., Balanovska E., Villems R., Meller H., Alt K.W., Cooper A.; Members of the Genographic Consortium. Ancient DNA from European early neolithic farmers reveals their near eastern affi nities // PLoS Biol. – 2010. – Vol. 8, iss. 11. – P. 1–16. – doi:10.1371/journal.pbio.1000536.
- Haak W., Lazaridis I., Patterson N., Rohland N., Mallick S., Llamas B., Brandt G., Nordenfelt S., Harney E., Stewardson K., Fu Q., Mittnik A., Bánffy E., Economou C., Francken M., Friederich S., Pena R.G., Hallgren F., Khartanovich V., Khokhlov A., Kunst M., Kuznetsov P., Meller H., Mochalov O., Moiseyev V., Nicklisch N., Pichler S.L., Risch R., Rojo Guerra M.A., Roth C., Szécsényi-Nagy A., Wahl J., Meyer M., Krause J., Brown D., Anthony D., Cooper A., Alt K.W., Reich D. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe // Nature. – 2015. – Vol. 522. – P. 207–211.
- Jobling M.A., Tyler-Smith C. The human Y chromosome: an evolutionary marker comes of age // Nat. Rev. Genet. – 2003. – Vol. 4, iss. 8. – P. 598–612.
- Jobling M.A., Tyler-Smith C. Human Y-chromosome variation in the genome-sequencing era // Nat. Rev. Genet. – 2017. – Vol. 18, iss. 8. – P. 485–497.
- Karafet T.M., Mendez F.L., Meilerman M.B., Underhill P.A., Zegura S.L., Hammer M.F. New binary polymorphisms reshape and increase resolution of the human Y chromosomal haplogroup tree // Genome Res. – 2008. – Vol. 18, iss. 5. – P. 830–838.
- Kayser M. Forensic use of Y-chromosome DNA: a general overview // Hum. Genet. – 2017. – Vol. 136, iss. 5. – P. 621–635.
- Kivisild T. The study of human Y chromosome variation through ancient DNA // Hum. Genet. – 2017. – Vol. 136, iss. 5. – P. 529–546.
- Krause J., Fu Q., Good J.M., Viola B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Pääbo S. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia // Nature. – 2010. – Vol. 464, iss. 7290. – P. 894–897.
- Krause J., Pääbo S. Genetic time travel // Genetics. – 2016. – Vol. 203. – P. 9–12.
- Krzewińska M., Kılınç G.M., Juras A., Koptekin D., Chyleński M., Nikitin A.G., Shcherbakov N., Shuteleva I., Leonova T., Kraeva L., Sungatov F.A., Sultanova A.N., Potekhina I., Łukasik S., Krenz-Niedbała M., Dalén L., Sinika V., Jakobsson M., Storå J., Götherström A. Ancient genomes suggest the eastern Pontic-Caspian steppe as the source of western Iron Age nomads // Sci. Adv. – 2018. – Vol. 4, iss. 10. – P. 1–12. – doi:10.1126/sciadv.aat4457.
- Lazaridis I. The evolutionary history of human populations of Europe // Curr. Opin. Genet. Dev. – 2018. – Vol. 53. – P. 21–27.
- Liu Y., Mao X., Krause J., Fu Q. Insights into human history from the fi rst decade of ancient human genomics // Science. – 2021. – Vol. 373. – P. 1479–1484.
- Loog L., Lahr M.M., Kovacevic M., Manica A., Eriksson A., Thomas M.G. Estimating mobility using sparse data: Application to human genetic variation // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2017. – Vol. 114, iss. 46. – P. 12213–12218.
- Meiggs D.C., Freiwald C. Human migration: bioarchaeological approaches // Encyclopedia of Global Archaeology / ed. C. Smith. – N. Y.: Springer, 2018. – P. 3538–3545. – URL: https://doi.org/10.1007/978-1-4419-0465-2_1814
- Molodin V.I., Pilipenko A.S., Romaschenko A.G., Zhuravlev A.A., Trapezov R.O., Chikisheva T.A., Pozdnyakov D.V. Human migrations in the southern region of the West Siberian Plain during the Bronze Age: Archaeological, palaeogenetic and anthropological data // Population Dynamics in Prehistory and Early History: New Approaches Using Stable Isotopes and Genetics / eds. E. Kaiser, J. Burger, W. Schier. – B.: De Gruyter, 2012. – P. 95–113.
- Orlando L., Allaby R., Skoglund P., Sarkissian C., Stockhammer P.W., Avila-Arcos M.C., Fu Q., Krause J., Willerslev E., Stone A.C., Warriner C. Ancient DNA analysis // Nat. Rev. Methods Primers. – 2021. – Vol. 1. – Art. N 15. – URL: https://doi.org/10.1038/s43586-021-00016-3
- Oven M., van, Kayser M. Updated comprehensive phylogenetic tree of global human mitochondrial DNA variation // Hum. Mutat. – 2009. – Vol. 30, iss. 2. – P. 386–394.
- Pääbo S. The diverse origins of the human gene pool // Nat. Rev. Genet. – 2015. – Vol. 16. – P. 313–314.
- Pääbo S., Poinar H., Serre D., Jaenicke-Despres V., Hebler J., Rohland N., Kuch M., Krause J., Vigilant L., Hofreiter M. Genetic analyses from ancient DNA // Annu. Rev. Genet. – 2004. – Vol. 38. – P. 645–679.
- Patterson N., Moorjani P., Luo Y., Mallick S., Rohland N., Zhan Y., Genschoreck T., Webster T., Reich D. Ancient admixture in human history // Genetics. – 2012. – Vol. 192, iss. 3. – P. 1065–1093. – doi:10.1534/genetics.112.145037.
- Pinhasi R., Thomas M.G., Hofreiter M., Currat M., Burger J. The genetic history of Europeans // Trends Genet. – 2012. – Vol. 28, iss. 10. – P. 496–505. – doi:10.1016/j.tig.2012.06.006.
- Poznik G.D., Xue Y., Mendez F.L., Willems T.F., Massaia A., Wilson Sayres M.A., Ayub Q., McCarthy S.A., Narechania A., Kashin S., Chen Y., Banerjee R., Rodriguez-Flores J.L., Cerezo M., Shao H., Gymrek M., Malhotra A., Louzada S., Desalle R., Ritchie G.R., Cerveira E., Fitzgerald T.W., Garrison E., Marcketta A., Mittelman D., Romanovitch M., Zhang C., Zheng-Bradley X., Abecasis G.R., McCarroll S.A., Flicek P., Underhill P.A., Coin L., Zerbino D.R., Yang F., Lee C., Clarke L., Auton A., Erlich Y., Handsaker R.E.; 1000 Genomes Project Consortium, Bustamante C.D., Tyler-Smith C. Punctuated bursts in human male demography inferred from 1,244 worldwide Y-chromosome sequences // Nat. Genet. – 2016. – Vol. 48, iss. 6. – P. 593–599. – doi:10.1038/ng.3559.
- Pult I., Sajantila A., Simanainen J., Georgiev O., Schaffner W., Pääbo S. Mitochondrial DNA sequences from Switzerland reveal striking homogeneity of European populations // Biol. Chem. Hoppe Seyler. – 1994. – Vol. 375, iss. 12. – P. 837–840.
- Reich D., Green R.E., Kircher M., Krause J., Patterson N., Durand E.Y., Viola B., Briggs A.W., Stenzel U., Johnson P.L., Maricic T., Good J.M., Marques-Bonet T., Alkan C., Fu Q., Mallick S., Li H., Meyer M., Eichler E.E., Stoneking M., Richards M., Talamo S., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Hublin J.J., Kelso J., Slatkin M., Pääbo S. Genetic history of an archaic hominin group from Denisova Cave in Siberia // Nature. – 2010. – Vol. 468, iss. 7327. – P. 1053–1060.
- Serre D., Langaney A., Chech M., Teschler-Nicola M., Paunovic M., Mennecier P., Hofreiter M., Possnert G., Pääbo S. No evidence of Neandertal mtDNA contribution to early modern humans // PLoS Biol. – 2004. – Vol. 2, iss. 3. – P. 313–317. – URL: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0020057
- Sousa V., Hey J. Understanding the origin of species with genome-scale data: modelling gene fl ow // Nat. Rev. Genet. – 2013. – Vol. 14, iss 6. – P. 404–414.
- Stoneking M., Krause J. Learning about human population history from ancient and modern genomes // Nat. Rev. Genet. – 2011. – Vol. 12. – P. 603–614.
- Torroni A., Achilli A., Macaulay V., Richards M., Bandelt H.J. Harvesting the fruit of the human mtDNA tree // Trends Genet. – 2006. – Vol. 22. – P. 339–345.
- Underhill P.A., Kivisild T. Use of Y chromosome and mitochondrial DNA population structure in tracing human migrations // Annu. Rev. Genet. – 2007. – Vol. 41. – P. 539–564.
- Unterländer M., Palstra F., Lazaridis I., Pilipenko A., Hofmanová Z., Groß M., Sell C., Blöcher J., Kirsanow K., Rohland N., Rieger B., Kaiser E., Schier W., Pozdniakov D., Khokhlov A., Georges M., Wilde S., Powell A., Heyer E., Currat M., Reich D., Samashev Z., Parzinger H., Molodin V.I., Burger J. Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe // Nat. Commun. – 2017. – Vol. 8. – Art. N 14615. – URL: https://doi.org/10.1038/neomms14615.
- Veeramah K.R., Hammer M.F. The impact of wholegenome sequencing on the reconstruction of human population history // Nat. Rev. Genet. – 2014. – Vol. 15, iss. 3. – P. 149–162.
- Vernot B., Pääbo S. The predecessors within // Cell. – 2018. – Vol. 173. – P. 6–7.
- Vernot B., Zavala E.I., Gómez-Olivencia A., Jacobs Z., Slon V., Mafessoni F., Romagné F., Pearson A., Petr M., Sala N., Pablos A., Aranburu A., de Castro J.M.B., Carbonell E., Li B., Krajcarz M.T., Krivoshapkin A.I., Kolobova K.A., Kozlikin M.B., Shunkov M.V., Derevianko A.P., Viola B., Grote S., Essel E., Herráez D.L., Nagel S., Nickel B., Richter J., Schmidt A., Peter B., Kelso J., Roberts R.G., Arsuaga J.L., Meyer M. Unearthing Neanderthal population history using nuclear and mitochondrial DNA from cave sediments // Science. – 2021. – Vol. 372, iss. 6542. – Art. N 590. – URL: https://doi.org/10.1126/science.abf1667
- Wang T., Wang W., Xie G., Li Z., Fan X., Yang Q., Wu X., Cao P., Liu Y., Yang R., Liu F., Dai Q., Feng X., Wu X., Qin L., Li F., Ping W., Zhang L., Zhang M., Liu Y., Chen X., Zhang D., Zhou Z., Wu Y., Shafi ey H., Gao X., Curnoe D., Mao X., Bennett E.A., Ji X., Yang M.A., Fu Q. Human population history at the crossroads of East and Southeast Asia since 11,000 years ago // Cell. – 2021. – Vol. 184, iss. 14. – P. 3829–3841.