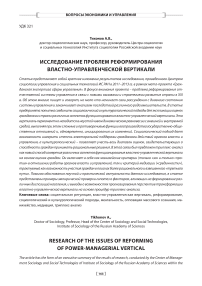Исследование проблем реформирования властно-управленческой вертикали
Автор: Тихонов А.В.
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 2 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья представляет собой краткое изложение результатов исследования, проведенного Центром социологии управления и социальных технологий ИС РАН в 2011-2013 гг. в рамках мета-проекта «Граж- данская экспертиза сферы управления». В фокусе внимания проекта - проблема реформирования от- ечественной системы управления в связи с новыми вызовами и стратегиями развития страны в XXI в. Об этом многие пишут и говорят, но мало кто начинает свои рассуждения с диагноза состояния системы управления и заканчивает анализом последствий различного рода вмешательств. В статье предпринята попытка соединить социологический и культурологический подходы для экспликации оценок гражданами страны различных аспектов функционирования властно-управленческой вертикали. Эта вертикаль перманентно находится в неустойчивом динамическом равновесии с внешней и внутренней средой, выполняя при этом сложные и противоречивые функции воспроизводства государственно-обще- ственных отношений и, одновременно, инициирования их изменений. Социологический подход дает возможность измерить степень электоральной поддержки гражданами действий органов власти и управления, а культурологический - позволяет учесть весь диапазон оценок, свидетельствующих о способности граждан принимать рациональные решения. В этой связи был предложен триплекс-анализ как новый способ измерения различных аспектов функционирования властно-управленческой вертикали на основе оценок граждан. Он включает в себя как манихейские критерии (только «за» и только «про- тив» в отношении работы органов власти и управления), так и критерий медиации («срединности»), трактуемый как возможность участия граждан в поисках более рационального и взвешенного «третьего пути». Помимо обоснования научной и практической актуальности данного исследования, в статье представлены примеры эмпирической проверки гипотез о факторах, влияющих на формирование раз- личных диспозиций населения, и выводы о возможностях прогнозирования перспектив трансформации властно-управленческой вертикали на основе процедур триплекс-анализа.
Социетальная регуляция, властно-управленческая вертикаль, реформирование, социологический и культурологический подходы, ментальность, оппозиции массового сознания, манихейство, медиация, триплекс-анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14119758
IDR: 14119758
Текст научной статьи Исследование проблем реформирования властно-управленческой вертикали
Научная и практическая актуальность исследования
Проблемы социетальной регуляции отношений в обществе, к которым относятся генезис и функционирование властно-управленческой вертикали, теоретически рассматриваются в работах Т.И. Заславской, Н.И. Лапина, Ж.Т. Тощенко и целого ряда других российских исследователей. В последнее время всплеск внимания к политическому аспекту этих проблем возник в связи с протестными движениями в период выборов в Государственную Думу и Президента РФ (на который пришелся и эмпирический этап нашего исследования) и в связи с 20-летием проводимых в стране реформ. Последнему посвящен, например, целый номер журнала научно-исследовательского комитета университета «Высшей школы экономики»1. Здесь, наряду с выступлениями известных экономистов, непосредственных участников реформ 1990-х годов (Я.М. Уринсон, С.Ю. Глазьев, М.Л. Григорьев), напечатана и статья М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой и М.Е. Петухова «Юбилей российских реформ, социологический диагноз»2. В ней представлены уже не откровения очевидцев и не самооправдание причастных, а эмпирические данные двух исследований: 1) «Новая Россия: десять лет реформ» (2001, ИС РАН) и 2) «Двадцать лет реформ глазами россиян» (2011, ИС РАН), где динамика событий представлена одновременно и как история противостояния двух лагерей: сторонников и противников реформ. Если в 2001 г. их соотношение составляло 47 и 37%, то сегодня разрыв сократился (34 и 29% соответственно) при увеличении слоя «срединников»
или, по-нашему, медиаторов, не придерживающихся крайних позиций. При этом не может не настораживать странная закономерность: реформы у нас идут все эти годы одна за другой, но нельзя назвать ни одной, которая закончилась бы общепризнанным положительным результатом.
Случайно ли это? Какую роль при этом играет сама «властно-управленческая вертикаль»? Трудно ответить однозначно. Возможно, дело в том, как пишут авторы статьи, что необходимые «преобразования в стране начались как реформирование “сверху”, – без учета не только мнения населения, но и позиции депутатского корпуса». Приход к власти «умеренных реформаторов» во главе с В.В. Путиным только частично устранил отрицательные последствия этой политики, оставляя без изменения «не поддающиеся пока решению проблемы неэффективного государственного управления, чрезмерного роста социальной дифференциации, неработающие законы и отстающую в развитии социальную сферу»3. Все это, вроде бы, дает веские основания говорить о провале такого типа реформирования. Но никто, кроме крайних противников, такого заключения пока не делает.
Остается добавить к выводам уважаемых коллег, что формирование властно-управленческой вертикали происходило не только без участия общества, но и с нарушением хорошо известных кибернетических законов: о необходимом информационном разнообразии субъекта и объекта управления, о действии положительной и отрицательной обратной связи и др., не говоря уже о медицинском законе «не навреди». При этом у нас отсутствуют примеры того, чтобы наши реформы обеспечивались каким бы то ни было научным или, тем более, социологическим сопровождением.
Казалось бы, все понятно. Есть исчерпывающий ответ: виноват традиционный для России авторитарный стиль управления, для которого жесткая вертикаль власти и есть управление. Но и после такого, вполне правдоподобного утверждения, подлинные проблемы конструирования в России механизма социетальной регуляции происходящих у нас процессов не проясняются. Стили, кроме того же авторитарного, бывают еще, например, либеральными (в смысле попустительства), демократическими и смешанными. При этом они мо-гутбыть более или менее адекватными реальным проблемам выживания и развития страны, отвечать интересам всех, большинства или только отдельных слоев общества. Но кто может с уверенностью сказать, какой стиль или способ управления адекватен внешним и внутренним вызовам в конкретных исторических условиях, а какой нет? Кто скажет, как, на самом деле, складываются эти стили: спонтанно, снизу или только конструируются органами власти и управления сверху? Может ли быть гарантией адекватности стиля управления реальным вызовам и угрозам та или иная поддержка его населением? Какой процент поддержки достаточен, чтобы власть и управление были и легитимны и эффективны? Во всем этом нет ясности. Несомненно, что без научных исследований ответить на эти и подобные вопросы не представляется возможным.
Похоже, что и у нас, и за рубежом только сейчас наметился серьезный поворот политиков к решению проблем управления: социально-политическими, экономическими, экологическими и др. процессами на научной основе. За последние годы эти процессы не раз показывали свою неукротимую стихийно-разрушительную силу, несмотря на то, что начинались из самых благих намерений или, во всяком случае, представлялись такими. Не случайно, в последнем докладе Национального разведывательного совета США под названием «Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры» говорится, что сегодня в основу про- гнозных оценок специалисты кладут как традиционные показатели типа ВВП, численность населения, уровень технологических инноваций и т.п., так и критерий развитости систем управления в отдельных регионах и странах4. Последнее хочется подчеркнуть двумя жирными линиями.
«Развитость систем управления» сегодня действительно становится стратегическим ресурсом, который учитывается экспертами при формировании прямых и альтернативных сценариев на глобальном, региональном и местном уровнях. Но на вопрос, учитывают ли такую «развитость» субъекты принятия решений наших властно-управленческих структур, трудно ответить определенно. Будем считать, что они не вполне учитывают или даже не вполне знают, что это надо учитывать, поскольку заказов на разработку индикаторов «развитости» мы в Российской академии наук не получали.
Директор ИС РАН, академик М.К. Горшков, подчеркивая сложность, противоречивость и конфликтность процессов развития нашей страны, обращает внимание на то, что эта ситуация должна в скором времени кардинально измениться, и что социолог, в этих условиях, все в большей степени должен становиться востребованным как эксперт. «По сути дела, – пишет он, – на нас возлагается никем не заменимая роль научно-исследовательской экспертизы и прогнозирования возможных социальных результатов политико-управленческих решений»5. С этим нельзя не согласиться. Возлагается. Но в планах фундаментальных исследований государственных академий на 2013–2020 гг., где говорится о необходимости решения методологических проблем анализа трансформации российского общества и разработок социальных технологий управления, специального финансирования таких разработок не предусмотрено.
Мы предлагаем обратить внимание на некоторые, пусть еще и не окончательные, результаты измерений степени «развитости отечественной системы управления» по совокупности социологических и культурологических критериев, на основе материалов нашего пилотного исследования 2010–2013 гг. в рамках мета-проекта «Гражданская экспертиза сферы управления», в надежде на его полномасштабную реализацию в ближайшем будущем.
Цель, задачи и этапы исследования
Система властно-управленческой вертикали состоит из отношений органов власти и управления и населения как субъекта, делегировавшего этим органам полномочия на сохранение и развитие общества как целого с учетом его интересов и потребностей. Неотъемлемыми элементами, или «клетками» этой системы выступают социальные группы, структурированные по характеру отношения к результатам деятельности вполне определенных органов власти и управления – от их полной поддержки до полного неприятия. Понятно, что крайние позиции («полная поддержка» и «полное неприятие») идеальны, в духе модели М. Вебера. Реальные диспозиции содержат элементы того и другого и, в определенной степени, отражают напряженность отношений между государством и обществом.
Целью нашего исследования выступает диагностика состояния властно-управленческой вертикали на основе экспликации структуры и содержания этих диспозиций. Диагностика здесь понимается в буквальном смысле слова как процедура оценки степени под- держки населением способности властно-управленческой вертикали осуществлять свои функции. Отсюда ее название – «гражданская». Задачами являются:
-
1) опробовать диагностические возможности оценки властно-управленческой вертикали на основе использования полной диспозиционной шкалы: сторонники – «срединни-ки» – противники;
-
2) определить, каким социально-смысловым содержанием наполняются отношения между органами власти и управления, с одной стороны, и населением – с другой, в зависимости от характера решаемых социальных и политических проблем (вызовов);
-
3) выяснить степень социальной сензитивности (чувствительности) населения к решению органами власти и управления внешних и внутренних проблем как угроз нашему выживанию и развитию;
-
4) на основе социальной диагностики плюсов и минусов функционирования властноуправленческой вертикали сделать экспертное заключение о перспективах радикального реформирования этой сферы;
-
5) оценить познавательные возможности нового измерителя (триплекса), а также сочетания полевого и дистанционного способов сбора первичной социологической информации.
Исследование проводилось в пять этапов. 1. Концептуальное обоснование методологического подхода к исследованию функционально-дисфункциональных проявлений властно-управленческой вертикали. 2. Проведение репрезентативного опроса населения в полевом режиме и в режиме онлайн для сравнения и оценки возможностей дистанционного сбора информации с традиционными (полевыми) методами. Проверка гипотез о факторах, влияющих на состав функциональных диспозиций населения (так называемых «триплекс-групп»). 4. Экспертное заключение о проблеме и дальнейшей работе над проектом.
Теоретико-методологическое обоснование диагностики состояний и перспектив трансформации властно-управленческой вертикали
В специальной литературе сегодня идет жаркая полемика относительно специфики трансформационных процессов российского общества. Известны термины, введенные в работах С.Г. Кирдиной («институциональные матрицы»), О.Э. Бессоновой («раздаточная экономика»), С.Г. Кордонского, М.Ф. Черныша («сословная структура российского общества»), О.И. Шкаратана и В.В. Радаева («этакратизм российского социума»), Ю.С. Пивоварова, А.И. Фурсова («отношение к государственной и частной собственности») и др. авторов. Полемизируя с ними, А.И. Липкин, например, утверждает, что для оценки трансформационных процессов в современной России наиболее подходит теория взаимопроникновения двух моделей социальной организации общества: «приказной», основанной на централизованном механизме мобилизации населения на преодоление внешних и внутренних угроз, и «договорной», идущей от принципов «общественного договора» Гоббса и Локка6. На самом деле, в общетеоретическом плане позиции всех авторов достаточно интересны, но важно все же и им и нам всем научиться соотносить масштаб теоретизирования и свои возможности эмпирической проверки тех или иных гипотез.
Наибольшим потенциалом в этом отношении, на наш взгляд, обладает социокультурный подход в общей социологии, разрабатываемый Н.И. Лапиным и другими авторами, кото- рый исходит из того, что сегодня на авансцене появляется человек как социальный субъект, деятельность которого сопоставима с действиями социальных институтов7.Этот субъект не только интернализует нормы и ценности общества, но и воздействует на его компоненты в соответствии с новыми потребностями и интересами при непрерывном возрастании (за счет научно-технологического прогресса) обеспеченности ресурсами как групповой, так и персональной деятельности.
Этот подход позволяет лучше понять, и, главное, эмпирически исследовать реальные и возможные тренды трансформации российского общества в исторически заданных обстоятельствах. Логика такой трансформации раскрывается при анализе теоретически выделенных инверсионных пар происходящих процессов типа спад – подъем, экстенсивное – интенсивное (развитие), конфронтация – согласие, мобильность – стабильность,организованность –дезор-ганизованность ит. п. Поэтойлогике, сама властно-управленческая вертикальявляется реальным компромиссом между «приказной» и «договорной» моделями организации общественной жизни, между так называемыми «вертикалью» и «горизонталью». Любые реформы – тоже компромиссы между инструментальными результатами и социальной устойчивостью правящей вертикали. Если реформы односторонние, то они неминуемо будут порождать контрреформы, что невольно возвращает наше развитие на старые «манихейские» круги: от красных к белым, от левых к правым, от архаики к инноватике и обратно. В этой связи следует более глубоко изучать механизмы согласования – рассогласования позиций противоборствующих сторон и выведения их на конструктивные решения. Эта проблема была поставлена в свое время в работах П. Сорокина, А. Ахиезера и сегодня развивается А.П. Давыдовым как проблема социокультурных трансформаций через образование «срединных» социоментальных групп.
Гипотеза такова: существование в нашем обществе постоянно враждующих лагерей «сторонников» и «противников» реформ есть следствие исторически сложившегося социокультурного раскола. К нему мы привыкли как к должному состоянию и традиционно пытаемся решать новые задачи старым способом: уничтожать противников, наивно полагая, что хорошее и справедливое общество сразу наступит, как только убьем последнего «дракона». То, что такое состояние ментальности неизбежно приводит к печальным катастрофам, многократно отмечалось в работах А. Янова, И. Клямкина, И. Яковенко, Г. Тульчинского, И. Кондакова, В. Межуева, И. Ионова, В. Федотовой и того же А.П. Давыдова. При этом решение возникающих в обществе острых проблем-оппозиций, начиная со времен борьбы западников и славянофилов, уважаемые авторы как не связывали, так и не связывают с изменениями способов функционирования властно-управленческой вертикали. Возможно поэтому проблема перспектив формирования в России «срединной» культуры повисает в затяжных культурологических спорах и не выходит на эмпирическую стадию.
В концептуальнойсхеме нашего исследования используетсятакаяединица измерения, как группы респондентов, связанных различными отношениями к одному и тому же предмету – к действиям конкретного властно-управленческого органа, призванного одновременно учитывать содержание задачи как проблемы социетального, группового и индивидуального уровней. Мы назвали эту единицу «социоментальным триплексом» (от лат. «triplex» – тройственность, тройной). Под ментальностью (лат. «mentalis» – умственный) понимается комплекс образа мыслей (духовных установок, эмоциональных построений), определяющих способ принятия решений в условиях альтернатив. Известно, что люди могут не отличаться друг от друга по многим социальным показателям (по полу, возрасту, образованию, социальному положению), но различия по ментальности очень часто разводят их по разные стороны баррикад. Социологи знают, что поведение в конкретных обстоятельствах определяется теоремой У. Томаса, которая, однако, не учитывает, что социальная реальность эксплицируется нашим сознанием не непосредственно, а опосредовано, через согласие или несогласие с другими. Логика «либо – либо» формирует своего рода «диктатуру статичного мышления» (А.П. Давыдов), консервирует наше мышление на одной из сторон противоположности, а логика развития идет через формирование (открытие) новых смыслов, через творческий поиск альтернативной позиции в условной середине.
Ниже (в таблице) мы назвали традиционно «колеблющихся» между крайними позициями «медиаторами», поскольку особенность середины, на наш взгляд, не в колебаниях, а в дистанцировании от крайностей и, в этом смысле, в вольном или невольном выполнении функции регуляции отношений между сторонниками и противниками, поддержания конструктивного диалога. Триплексы называются у нас «функциональными диспозициями», поскольку ни одна позиция не рассматривается в изоляции от двух других. Триплексы – подвижные, динамичные социоментальные образования. Может со временем меняться их персональный состав, а с ним целый набор социальных и личностных качеств, но структурно это довольно устойчивые соотношения групп людей по их поведению в конкретных социально значимых ситуациях. В аналитических целях мы различаем шесть видов триплексов.
-
1. Уравновешенное плато (все три позиции примерно равны).
-
2. Отрицательная динамика (число противников выше, чем число колеблющихся и сторонников).
-
3. Положительная динамика (число сторонников выше, чем число колеблющихся и противников).
-
4. С «выгнутой» серединой(«медиаторы» выполняют основную регулирующую функцию между сторонниками и противниками). Единицу измерения – группы респондентов, связанные различными отношениями к действиям конкретного властно-управленческого органа призванного одновременно учитывать содержание задачи как проблемы социетального группового и индивидуального уровней – мы назвали «социоментальным триплексом».
-
5. С «вогнутой» серединой(между крайними позициями возможнаусиленная конфронтация).
-
6. Коленчатая (либо отрицательная, либо положительная динамика количественно поддерживается «медиаторами»).
В итоге, помимо количественного анализа, исследователь получает возможность графического рассмотрения отношения населения к вертикалис помощью пиктограмм. В нашем исследовании потенциал методики проверялся при анализе четырех ситуаций: 1) оценивание состояния властно-управленческой вертикали (по соотношению противников, «медиаторов» и сторонников – (см. таблицу) и распределению оценок в отношении необходимости радикального реформирования вертикали; 2) влияние различных факторов на структуру и содержание триплексов в поле действия властно-управленческой вертикали; 3) социальная сензитивность населения кспособности органов власти иуправленияадекватно реагировать на внешние и внутренние вызовы; 4) обеспокоенность респондентов трудно устранимыми (и органическими для российского социума) «недостатками» современной модели управления.
Ниже мы рассмотрим некоторые результаты анализа эмпирического материала в каждой из этих ситуаций (см. таблицу ). Справочно: опрошено 3078 респондентов, из них полевой опрос по анкете – 1734, интернет-опрос – 1344 человека. Эмпирическая проверка валидности исследования дана в коллективной монографии8.
Триплекс-анализ состояния и перспектив властно-управленческой вертикали
Властно-управленческая вертикаль – это совокупность формальных и неформальных механизмов регуляции институциональных отношений в обществе (прежде всего власти, собственности и управления) в целях поддержания социального порядка и достижения инструментальных результатов.
Вертикаль состоит из нескольких уровней, каждый из которых отвечает за свой участок социума и одновременно за сохранение себя в структуре вертикали: 1) федеральный, 2) региональный, 3) местный (поселенческий), 4) уровень отдельной организации, критерием деятельности которой является производство конечного продукта (результата).
По способности поддержания социального порядка в самых экстремальных условиях и обеспечения при этом участия всех групп и категорий населения в принятии социеталь-ных, институциональных и менеджериальных решений, определяется, на наш взгляд, «развитость» и самих систем управления. Как пишет Н.И. Лапин, власть для одних представляет желаемую ценность, для других – антиценность, а третьи проявляют к ней безразличие. По его данным, в России ценность власти признают около 20% населения, безразличие проявляют 14%, а негативное отношение испытывают 66%9. Не удивительно, что народ нередко пассивно относится к выборам в органы власти. Однако это совсем не значит, что респонденты с негативным отношением к власти как к ценности не выражают ей поддержку в определенных ситуациях. В нашей ментальности «власть» и «управление» – синонимы. Проблема в связи с этим – не столько в «дефиците демократии», сколько в «дефиците управления» в работе органов власти и в низкой социокультурной компетентности кадров, благодаря чему даже самым демократическим способом избранный руководитель завтра может превратиться в местного «наполеончика». Как и в случае с данными исследованиями об отношении россиян к реформам10, важно знать, кто стоит за отношением к власти и как это отношение связано с выполнением органом власти функций управления.
Показателиэлекторальных предпочтений населения(число проголосовавшихза определенного кандидата) оставляют в тени и другой важный вопрос: что представляют собой те, кто не принял участия в голосовании или проголосовал против? Не говоря уже о том, является ли легитимной власть, избранная меньшинством населения, пришедшем на выборы? При одностороннем подходе к исследованию социально-политических процессов мы упускаем из вида более фундаментальные явления, а именно: кто те, кто на самом деле вершат социетальную политику за спинами избирателей и населения?Это беспокойство нашло свое выражение в работах известных западных социологов (Т. Адорно, Х. Арендт, Э. Фромм, У. Бек, П. Бурдье и др.), на которых ссылается З. Бауман в предисловии к русскому изданию своей увлекательной книги «Индивидуализированное общество»: «В наше время, – пишет он,– возникает новая форма власти, порывающая с традиционным методом управления на основе правил и соглашения с народом и использующая дерегулирование (считай, непрерывное реформирование. – Авт.) в качестве своего главного рычага. Человек может быть в гораздо большей степени зависим от институциональных сил, о существовании которых он даже не подозревает, но, несмотря на это, ему все равно придется расплачиваться за принятие или не принятие ими решений»11. Это так. И чем больше власть подминает под себя управление, тем больше вероятность того, что келейно принятые решения приобретут надличностный характер. При фактическом переплетении функций власти и управления мы более полно сможем судить о состоянии социетальной системы, если возьмем за основу социоменталь-ные триплексы, где одновременно представлены позиции «за», «против» и «середины» (см. таблицу ). Остается чисто методический вопрос, который мы сейчас не обсуждаем: как эти триплексы сконструировать, чтобы измерение оставалось научным?
Общий анализ властно-управленческой вертикали
Обращаем внимание, прежде всего, на правую сторону таблицы, на категорию «не ответившие». Таких по всей иерархии властно-управленческой вертикали оказалось от 14 до 20%. Это те, кто по разным причинам не захотел давать оценку органам власти и управления. По западным меркам, это те категории людей, которые не верят в добрые намерения своего государства. У нас они составляют пока меньшинство, а остальные (левая сторона таблицы), все еще верят, что наша власть способна выполнять свои обязательства перед населением (это ее сторонники). По-своему верит и средний слой: «медиаторы» занимают взвешенную позицию, не вступая в конфронтацию с одними и не сливаясь с другими.
Что показывает анализ триплексов? Оказалось, что на федеральном уровне самая слабая позиция у законодательных органов. Здесь не только сильная отрицательная динамика, но и превышение в два раза числа противников над числом сторонников. Наиболее показательными являются и крайние проявления своей позиции: среди противников 25,6% у Думы и 23,6% у Совета Федерации. У исполнительной власти наихудшее положение в руководстве отраслями народного хозяйства. Здесь наибольший процент «не ответивших» (20,4%). Основная масса населения, скорее всего, плохо знает, чем занимаются отрасли. Здесь тоже довольно высокий процент противников (43,5%) – в два раза больше, чем сторонников. В целом у этой структуры тоже обнаруживается ярко выраженная отрицательная динамика.
Президентская и правительственная власти отличаются профилями триплексов. У первой довольно устойчивое распределение противников, сторонников и «медиаторов»(почти поровну), а у Правительства «коленчатое плато» – заметная отрицательная динамика. Эту динамику повторяет уровень управления регионами и уровень администрации городов и сел, где также видна отрицательная динамика. Последнее всегда означает, что срединная часть воздерживается от социальной поддержки управленцев определенного уровня. Чем больше власть подминает под себя управление, тем больше вероятность того, что келейно принятые решения приобретут надличностный характер.
Отдельного комментария требует оценка респондентами работы самого широкого по охвату, близкого и понятного любому гражданину уровня управления конкретной организацией.
Это то место, где действует непосредственная связь личного и общественного, индивидуального и институционального. Мы обнаружили, что именно здесь властно-управленческая вертикаль в нашей стране имеет положительную динамику, т.е. большое (больше половины) и растущее число сторонников. Качественный анализ состава триплекс-структур, приведенный ниже, свидетельствует о наибольшей концентрации на этом уровне инновационного социального потенциала страны. Это обнадеживающее обстоятельство говорит о том, что у России есть естественная и мощная социальная база реформ «снизу».
Наш анализ показывает, что в целом властно-управленческая вертикаль находится в неустойчивом состоянии. Она имеет интенцию к глубоким изменениям как на уровне пред- ставительной власти, так и на уровне правительства и отраслевых министерств. Управление в городах, поселках и селах в общем процессе трансформации вертикали пока существенной роли не играет.
Система управления в стране, по нашим данным, поддерживается в рабочем состоянии с двух сторон: сверху – стабильной (равновесной) позицией Президента РФ, и снизу – положительной динамикой в управлении организациями, поддерживающей общий оптимистический настрой в стране. Кроме того, что не вполне очевидно, особую стабилизирующую роль выполняет категория «медиаторов» (треть опрошенных), которая в численном соотношении достаточно велика, чтобы поддержать, в случае изменения социально-политической конъюнктуры, сторонников конструктивной программы реформирования властно-управленческой вертикали одновременно и снизу, и сверху, или поддержать противников нынешнего политического курса, если дело дойдет до радикальных перемен «снизу». Эти выводы сделаны нами в «первом приближении», поскольку требуется более детальное рассмотрение состава и ориентаций выделенных нами социоментальных групп по другим параметрам и продолжение исследований в регионах на основе мониторинга.
Таблица
Функционально-диспозиционные структуры (триплексы) отношения населения к властно-управленческой вертикали, %
|
Триплексы (СМГ) Уровни системы управления |
Противники (в т.ч. «ярые») |
«Медиаторы» |
Сторонники (в т.ч. безусловно) |
Неответившие |
|
1. Президент РФ |
34,6 (15,1) |
33,4 |
32 (7,3) |
16,4 |
|
2. Правительство РФ |
36,8 (16,4) |
35,1 |
28 (5,0) |
13,8 |
|
3. Государственная Дума |
49,8 (25,6) |
31,6 |
18,6 (4) |
19,8 |
|
4. Совет Федерации |
47,7 (23,6) |
35,4 |
19,9 (4) |
14,1 |
|
5. Отраслевые министерства |
43,5 (16,5) |
34,9 |
21,6 (5) |
20,4 |
|
6. Управление регионами |
39,5 (13,3) |
35,2 |
28,9 (6,8) |
14.8 |
|
7. Администрация города, поселка, села |
38,1 (15,7) |
35,8 |
26,1 (5,1) |
13,6 |
|
8. Администрация предприятия, организации |
26,9 (11,4) |
32,1 |
41 (11,5) |
16,9 |
Проверка гипотез о факторах, влияющих на формирование функциональных диспозиций населения
В соответствии с поставленными задачами мы проверили влияние восьми групп факторов на распределение респондентов в триплексах по всей властно-управленческой вертикали. Содержание этих факторов в основном хорошо известно социологам. Предполагалось, что каждый из восьми исследуемых факторов влияет на формирование функциональных диспозиций респондентов, что позволяет, с одной стороны, создать обобщенные портреты сторонников и противников органов власти и управления, а с другой – ранжировать эти факторы по степени их влияния. Покажем возможности этого подхода на примере двух крайних уровней: анализа триплекс-групп в отношении 1) работы аппарата Президента РФ и 2) администрации низовых организаций (предприятий). Каждый из этих уровней представ- ляет собой обширный предмет исследований. Их разработка является плановой темой отдельных сотрудников нашего Центра. В данной статье гипотезы о факторах носят эмпирический характер.
Портрет противников Президента РФ
Это мужчины в возрасте до 30 лет, неважно какого семейного положения, с высшим образованием, занятые преимущественно умственным трудом, имеющие опыт участия в управлении, высокий уровень достатка, принципиально не участвующие в федеральных, региональных и муниципальных выборах, достаточно активные в общественном и коммуникативном поле, с высокой инновационной ориентацией, в основном работающие в организациях со смешанной формой собственности; из тех, кто обращался с просьбами и предложениями в органы власти местного и регионального значения и не получал удовлетворительных ответов. Портрет сторонников Президента РФ. Это преимущественно женщины в возрасте от 40 лет и старше, разведенные, среднего и ниже среднего образования, занятые преимущественно физическим трудом, не имеющие опыта в управлении, активно участвующие в федеральных, региональных и местных выборах, с невысоким достатком, но с собственной жилой площадью, не бывавшие за рубежом, не проявляющие особой общественной и коммуникативной активности, с умеренными ориентациями на инновационность, с повышенной психологической тревожностью, проживающие в основном в поселках городского типа и в сельской местности, редко обращающиеся в органы власти по месту жительства, но при этом удовлетворенные результатами их деятельности.
Теперь рассмотрим по такой же схеме портреты противников и сторонников администрации предприятий (организаций), в которых непосредственно работают респонденты. Напомним, что это единственный элемент властно-управленческой вертикали, который имеет явно выраженную положительную динамику и «подпирает» своим существованием властно-управленческую вертикаль «снизу».
Портрет противников администрации организаций (предприятий)
Здесь нет гендерного фактора. Возраст – 50 лет и более; семейное положение и образование не играют роли; занятость неполная; не имеют опыта управления; жилищные условия – квартира; уровень достатка не влияет на отношение к администрации; участие или не участие в федеральных или других выборах не имеет большого значения в отношении к администрации. Проявление или не проявление активности также не имеет значения. Главное личностное качество – консервативность. Форма собственности организации, где работают – государственная и муниципальная; отрасль не имеет значения. Не обращались с просьбами в органы местного самоуправления.
Портрет сторонников
Имеет прямо противоположные черты. Это, в основном, мужчины до 35 лет, семейные, образование высшее, заняты преимущественно умственным трудом, имеют опыт в управлении, высокий достаток, свой дом, опыт заграничных поездок, не участвуют в выборах, активные пользователи интернета, с высокой степенью общественной и коммуникативной актив- ности; основное качество личности – инновационность, при этом – высокая психологическая тревожность. Работают в организациях частной и смешанной форм собственности; не обращались в органы местной власти и управления.
По такой же схеме нами составлены портреты социально-ментальных групп по каждому уровню вертикали, на которых мы здесь не можем останавливаться. Уже по приведенным примерам видно, что за количественными величинами стоят заметные качественные различия между сторонниками, медиаторами и противниками работы органов власти и управления. Дальнейшая работа над категоризацией и индикацией признаков оценки деятельности властно-управленческих структур позволит повысить научную и прикладную ценность предложенного подхода для экспертных целей.
Возможность количественной оценки влияния факторов на структуру и содержание триплексов
В качестве методического правила берем размах отклонения от средней величины признака в плюсовую и минусовую стороны. Приблизительная оценка показала, что на первом месте по вкладу в структуру отношения населения к органам власти и управления выходит отрицательный опыт обращения респондентов в местные органы. Этот факт сказался на составе противников и сторонников. На втором месте оказался фактор электоральной активности. Практически все самые низкие оценки Президента и Госдумы идут от респондентов, которые не участвовали в федеральных, региональных и муниципальных выборах. На третьем месте по влиянию находится такой необычный фактор, как опыт управленческой деятельности у респондентов. Он вводится нами впервые. Все, имеющие такой опыт, дают более низкие оценки деятельности органов власти и управления, чем не имеющие такого опыта. Далее идут факторы образования и пола. Респонденты с высшим образованием, не говоря уже о тех, кто имеет научную степень, дают наиболее низкие оценки всем уровням вертикали, кроме последнего (организации) и больше всех поддерживают противников органов власти и управления. Это же относится и к отраслевому аспекту деятельности респондентов: наиболее критичны те, кто занят научной деятельностью и работает в сфере образования. Такие демографические признаки, как пол и возраст, играют важную роль только в некоторых случаях, о которых следует говорить в контексте ситуации.
Заключение
Разумеется, эти данные – еще далеко не полная картина отношения респондентов к иерархии структуры власти и управления. Это иллюстрация возможностей получить новое знание с помощью анализа триплекс-групп в процессе исследования специфических проблем трансформации властно-управленческих структур российского общества. Более обстоятельный ответ на поставленные вопросы может быть получен на основе представительных мониторинговых исследований по регионам с разным уровнем цивилизационного развития.
К сожалению, мы опускаем из описания интересные, но уводящие несколько в сторону данные о степени соответствия деятельности властей различных уровней внешним и внутренним угрозам. Скажем только, что число обеспокоенных неудовлетворительным положением дел по отдельным направлениям внутренней и внешней политики среди сторонников и противников доходит до 60–80%. Во внешней политике, еще до присоединения Крыма и западных санкций, наибольшее беспокойство вызывали действия США и НАТО, а во внутриполитической жизни коррупция в органах власти и жилищный вопрос.
В этом проявляется общее понимание критической ситуации в стране и в мире и сторонниками, и противниками существующих властно-управленческих структур. Различными являются способы решения, вплоть до категорического неприятия планов и программ противоборствующими сторонами. Однако есть и большой потенциал выработки в обществе компромиссных (срединных) решений, что в отдельных случаях набирает до 40 процентов голосов, что не может не содействовать разработке оптимальных процедур работы всей властно-управленческой вертикали.
Список литературы Исследование проблем реформирования властно-управленческой вертикали
- Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ.; Под ред. В.Л. Иноземцева. - М.: Логос, 2005. - 390 c.
- Горшков М.К. Профессиональный праздник как повод для раздумий // Социологическая наука и социальная практика. - 2013. - № 1. - С. 5-11.
- Горшков М.К., Петухов В.В., Тихонова Н.Е. Юбилей российских реформ: Социологический диагноз // Мир России. - 2012. - № 1. - С. 79-122.
- Лапин Н.И. Пути России. - М.: ИФ РАН, 2000.- 194 c.
- Липкин А.И. Россия между несовременными «приказными» институтами и современной демократической культурой // Мир России. - 2012. - № 4. - С. 40-62.
- Мир в 2030 году: Прогнозы американских экспертов (о докладе Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры»). Аналитические доклады ИМИ. Вып. 3 (38). - М.: МГИМО, 2013. - 36 с.
- Социология управления: Фундаментальное и прикладное знание. - М.: Канон, 2014. - 560 с.