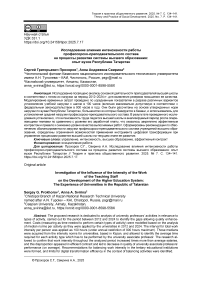Исследование влияния интенсивности работы профессорско-преподавательского состава на процессы развития системы высшего образования: опыт вузов Республики Татарстан
Автор: Прохоров С.Г., Свирина А.А.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 7, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено анализу основной деятельности преподавателей высшей школы в соответствии с типом их нагрузки за период 2012-2024 гг. для выявления резервов повышения ее качества. Моделирование временных затрат проведено по усредненным показателям в разрезе различных вариантов установления учебной нагрузки с шагом в 100 часов (включая максимально допустимую в соответствии с федеральным законодательством в 900 часов в год). Они были рассчитаны на основе утвержденных норм нагрузки по вузам Республики Татарстан, большинство из которых базируется в Казани, и использовались для установления средней нагрузки профессорско-преподавательского состава. В результате проведенного исследования установлено, что интенсивность труда педагога высшей школы в анализируемый период росла опережающими темпами по сравнению с уровнем его заработной платы, что оказалось закреплено эффективным контрактом и привело к снижению уровня качества выполняемых работ. Сформированы рекомендации по обеспечению сбалансированности загрузки профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования, определены ограничения возможностей применения инструмента цифровой трансформации при управлении процессами развития высшей школы на текущем этапе ее развития.
Управление, интенсивность, высшее образование, эффективный контракт
Короткий адрес: https://sciup.org/149148942
IDR: 149148942 | УДК: 331.1 | DOI: 10.24158/tipor.2025.7.17
Текст научной статьи Исследование влияния интенсивности работы профессорско-преподавательского состава на процессы развития системы высшего образования: опыт вузов Республики Татарстан
Введение . Постепенное ускорение развития технологий формулирует перед системой высшего образования потребность в решении двух задач, имеющих некоторое внутреннее противоречие. С одной стороны, раннее развитие, профилизация, развитие технологий асинхронного онлайн-обучения и высокий спрос на квалифицированную рабочую силу диктуют необходимость сокращения единичного цикла получения высшего образования (что косвенно подтверждается растущей востребованностью более коротких программ). С другой – исследования биологических, психологических и социальных характеристик сформированной личности показывают, что для ее появления в динамично изменяющемся мире требуется больше времени, чем в стабильно и медленно трансформирующейся внешней среде. Таким образом, высшей школе необходимо обеспечить подготовку специалиста за более короткий период, что предполагает повышение интенсивности образовательной деятельности.
Переход на систему «бакалавриат – магистратура» был призван разрешить это противоречие через гибкую адаптацию программы высшего образования под индивидуальные запросы студентов. Этому должна была способствовать беспрецедентная академическая мобильность, реализация индивидуальных образовательных траекторий, сетевые программы обучения, проектная деятельность, включая студенческое предпринимательство и взаимодействие с работодателями в рамках практической деятельности и базовых кафедр. Перечисленные меры, как обнаруживают исследования1 (Eatwell, 2005), оказывают положительное влияние на развитие профессиональных навыков и социальную адаптацию будущего специалиста. Кроме того, установление системы справедливого отбора абитуриентов на основе единого для всех подхода к оценке знаний также должно было способствовать разрешению описанного противоречия – ведь в вузы по такой системе попадают абитуриенты с более высокой базой, и чтобы сделать из них специалистов, необходимо меньше времени. Недостающие навыки такой обучающийся доберет во время практической деятельности, а дополнительные знания, уже более осознанно, – получит в рамках магистратуры.
В то же время более чем десятилетний опыт развития российской высшей школы привел к необходимости очередной реформы, целью которой является появление квалифицированных специалистов, необходимых реальному сектору экономики как можно быстрее, ведь зафиксированный уровень безработицы в 3,2 %2 ниже нормального значения и свидетельствует об острой нехватке кадров.
В связи со сказанным целью данной статьи было избрано исследование влияния интенсивности работы профессорско-преподавательского состава (ППС) на результативность процессов развития высшей школы интегрально и в разрезе типов обучающих процессов. При этом инструментом измерения интенсивности является временной параметр, так как мы полагаем, что в настоящее время оценке влияния временных ограничений уделяется недостаточно внимания.
Оценка эффективности и результативности деятельности высшей школы: результаты и противоречия. Как показывает анализ исследований, направленных на выявление факторов роста в высшем образовании, большинство ученых сходятся в том, что повышение уровня заработной платы ППС и особенно введение эффективного контракта способствовали росту результативности и качества деятельности высшей школы (Крайнов, 2017; Рясов, 2020). Соответствующий подход нашел отражение и в предложенном Я. Кузьминовым и его коллегами определении: «Эффективный контракт – это система мер, направленных на обеспечение достойной заработной платы работникам бюджетной сферы, уровня их благосостояния в соответствии со сложившимися стандартами жизни среднего класса и стимулирования качественного и эффективного труда в интересах потребителя»3, из которого аксиоматически следует появление взаимосвязи между внедрением эффективного контракта и созданием условий качественного использования человеческого капитала высшей школы. В то же время оценочные показатели сформулированы в соответствии с интересами учредителя вузов и не полностью коррелируют с запросами таких потребителей, как обучающиеся, их законные представители и работодатели.
Дальнейшие исследования (Курбатова, Донова, 2023) фиксировали достижение заявленных при внедрении эффективного контракта целей – так, уже к 2020 г. 86 % вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, справились с задачей достижения 200-процентного уровня заработной платы ППС относительно средней по региону величины. Как отмечают исследователи, «управленческая вертикаль в российском высшем образовании достаточно удачно справилась с работой на установленный показатель соотношения заработной платы ППС и среднерегиональной зарплаты, о чем свидетельствует прорыв 2018 г. и более высокие результаты Министерства науки и высшего образования РФ как учредителя вузов» (Курбатова, Донова, 2023), но при этом констатируется ряд проблем, возникающих при достижении данного целевого показателя, таких как низкий контингент обучающихся, недостаточная общая финансовая обеспеченность и невозможность оценить различия по группам научно-педагогических работников на основе агрегированных статистических данных.
Вместе с тем после внедрения эффективного контракта наблюдается существенное позитивное изменение публикационной активности ППС (Касаткин и др., 2022), в первую очередь отмеченное в национальных исследовательских университетах, федеральных университетах и участниках проекта по вхождению в мировые рейтинги вузов «5–100», а в последние годы – участников проекта «Приоритет – 2030» (Профессиональные стратегии преподавателей российских вузов: запрос на индивидуализацию …, 2024). Предположение о том, что достижение такого результата является следствием «зарплатного бонуса», формируемого в университетах данной категории за счет целевого финансирования развития соответствующих вузов, не получило статистического подтверждения (Курбатова, Донова, 2023), что позволяет сделать вывод о результативности применения системы эффективного контракта для достижения целей развития вузов: «ориентация деятельности преподавателя на результат как функция эффективного контракта также получает эмпирическое подтверждение: статусные вузы первой волны, демонстрирующие более высокие результаты деятельности, обладая большими финансовыми ресурсами, обеспечивают и более высокие показатели заработной платы; статусные вузы второй волны, с более слабыми показателями деятельности и не имеющие длительного дополнительного финансирования, значимого преимущества в зарплате не демонстрируют» (Курбатова, Донова, 2023). В то же время в исследованиях социально-психологического климата в высшей школе установлено, что «достаточно большая группа участников данного опроса (39,8 %) считает, что их заслуги (успехи, достижения, усилия) “скорее не признаются и не поощряются руководством университета”, но в то же время 52,8 % респондентов отмечают, что “руководством факультета / института заслуги скорее признаются и поощряются”, 46,2 % отмечают признание со стороны руководства кафедрой» (Осьмук, Яблонская, 2023). Данное противоречие позволяет предположить наличие не учитываемого в статистике фактора, оказывающего влияние одновременно на результативность работы ППС высшей школы и его субъективную оценку собственных заслуг со стороны университета.
Анализ статистических данных показывает, что выпуск бакалавров, специалистов и магистров в 2020 г. по направлению «Инженерное дело, технологии и технические науки» составил 28,4 % от всех выпускников, а в 2022 г. – 28,5 % (Ильина, 2023). И это в условиях огромной потребности в технических специалистах в настоящее время. При таком перекосе в сторону общественных наук (41,2 % – в 2020 г. и 39,6 % – в 2022 г.) (Ильина, 2023) решить задачу технологического суверенитета, поставленную Президентом РФ, невозможно. Обычно причиной такого недополучения реальным сектором экономики специалистов наиболее востребованных специальностей называют массовый уход в учреждения среднего профессионального образования (СПО) после 9 класса (более 60 %), но нам данный аргумент представляется недостаточным, так как получение образования в колледже не исключает возможности дальнейшего обучения в высшей школе, а напротив, повышает его доступность, но при этом массового перехода в систему высшего образования (ВО) после СПО не наблюдается. Помимо упомянутого повышения качества образования на уровне СПО, необходимо отметить и еще одну причину такого положения дел – получив среднеспециальное образование, выпускники не видят необходимости в высшем для себя, так как дополнительные три года (минимально, при условии реализации ускоренного обучения) почти не изменят их конкурентную позицию на рынке труда.
Приведенные противоречия позволяют предположить необходимость выявления фактора воздействия, который не рассматривался исследователями эффективности, результативности и социально-психологического климата высшей школы, но объяснял бы своим воздействием причины одновременного повышения качества и эффективности работы вузов и снижения их востребованности у потребителей – обучающихся, их законных представителей и работодателей.
Обоснование значимости фактора времени в оценке эффективности и результативности деятельности ППС . В первую очередь представляется необходимым сфокусироваться на выявленном противоречии объективной и субъективной оценки эффективного контракта ППС вузов. Как было отмечено выше, эффективный контракт привел к объективному росту параметров результативности и качества деятельности вузов (повышение качества публикаций, улучшение академической репутации, привлекательности для международных студентов и ряда других показателей) при одновременном субъективном непризнании собственных заслуг 40 % вузовских преподавателей.
В рамках настоящего исследования сформулирована гипотеза, что причина такого противоречия может быть связана с применением инструментов теории справедливости (Adams, 1965), в рамках которой неудовлетворенность собственными достижениями признается следствием дисбаланса личных затрат на выполнение труда и достигнутых результатов. При этом измерительным инструментом является количество потраченного времени, на основании которого формируются ожидания уровня признания.
В системе высшего образования присутствуют известные сотрудникам временные метрики выполняемых задач – каждый научно-педагогический работник формирует и выполняет индивидуальный план работы на год. Ключевые параметры данного планирования использованы нами в данном исследовании для достижения цели.
Независимой переменной в настоящем исследовании является интенсивность труда на единицу ППС, измеряемая в часах работы на 1 ставку; зависимой – результативность ППС в разрезе направлений, включаемых в эффективный контракт. Для наглядности исследования мы используем нормированные показатели, то есть исходим из того, что в среднем каждый штатный сотрудник вуза соблюдает нормы эффективного контракта, как и требования к деятельности по основной должности, включающие ведение занятий в соответствии с расписанием, проверку самостоятельной работы студентов, а также подготовку и обновление учебно-методической документации по преподаваемым дисциплинам.
Моделирование временных затрат проведено с использованием норм нагрузки 2012 и 2024 гг. по усредненным показателям (медианное значение установленных норм нагрузки по вузам Республики Татарстан на 2011/2012 на 2024/2025 учебные годы) в разрезе различных вариантов установления учебной нагрузки с шагом в 100 часов (включая максимально допустимую в соответствии с федеральным законодательством нагрузку в 900 часов в год).
Использование усредненных значений и исходных данных только по вузам Казани для расчета средней нагрузки за единицу выполняемой ППС работы является ограничением при анализе результатов исследования, но представляется нам допустимым, так как значительной вариативности по принятым нормам нагрузки в 20 вузах Республики Татарстан (которые осуществляли образовательную деятельность как в 2012, так и в 2024 гг.) выявлено не было. Таким образом, общий охват лиц, в отношении которых действовали данные нормы, составил более 16 000 человек в 2012 г. и более 9 000 – в 2024 г.
Моделирование графика рабочего времени преподавателя высшей школы . Моделирование затрат времени в рамках данного исследования было проведено с учетом норм времени, действовавших в 2012 г. – до старта реформы высшего образования, реализованной по итогам мониторинга эффективности вузов, и в 2024 гг.
При расчетах также был учтен средний объем читаемого педагогом курса, составлявший в 2012 г. 50 часов, а в 2024/2025 учебном году – 36 часов контактной нагрузки, что обусловлено ростом объемов самостоятельной работы за период реформирования системы высшего образования.
При расчете нагрузки по научной, внеучебной деятельности было учтено, что меньшие нормы ее устанавливаются ППС с высоким уровнем остепененности, что предполагает их большую вовлеченность в научную деятельность (подготовка статей в реферируемых изданиях, участие в научно-исследовательской (НИОКР) и грантовой деятельности), тогда как большая внеучебная занятость, как правило, характерна для педагогов, занимающих должности ассистента и старшего преподавателя.
Результаты моделирования по нормам усредненного эффективного контракта представлены в табл. 1.
Из приведенных ниже расчетов следует, что выполнение минимальных требований эффективного контракта приводит к превышению допустимой нагрузки даже при базовой ставке Х, равной 500 часам (и это при снижении норм подготовки к занятиям и проверки самостоятельной работы, которые были установлены в анализируемый период во всех вузах).
При пересчете же 900-часовой ставки в астрономические часы и сохранении 36-часовой рабочей недели выполнение минимальных норм эффективного контракта означает необходимость работы в течение 51 недели в году, то есть весь отпуск является рабочим временем с обычной нагрузкой.
Таблица 1 – Необходимое для выполнения минимальных условий эффективного контракта время в разрезе норм нагрузки 2012 и 2024 гг. при вариативном Х
Table 1 – Time Required to Perform the Minimum Conditions of an Effective Contract in Terms of Load Norms 2012 and 2024 with a Variable X
|
Наименование вида нагрузки |
Расчет времени в разрезе базовой аудиторной нагрузки (500–900 часов) по нормам 2012 г. |
Расчет времени в разрезе базовой аудиторной нагрузки (500–900 часов) по нормам 2024 г. |
||||||||
|
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
|
Учебная деятельность |
1 420 |
1 704 |
1 988 |
2 272 |
2 556 |
1 083 |
1 300 |
1 517 |
1 733 |
1 950 |
|
Аудиторная нагрузка |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
|
Подготовка к занятиям |
500 |
600 |
700 |
800 |
900 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
|
Проверка самостоятельной работы студентов (СРС) (расчетно-графическая работа (РГР) 1 раз в семестр) |
100 |
120 |
140 |
160 |
180 |
42 |
50 |
58 |
67 |
75 |
|
Консультирование |
20 |
24 |
28 |
32 |
36 |
14 |
17 |
19 |
22 |
25 |
|
Подготовка учебно-методических материалов |
300 |
360 |
420 |
480 |
540 |
278 |
333 |
389 |
444 |
500 |
|
Научная деятельность |
355 |
235 |
165 |
100 |
70 |
510 |
470 |
380 |
290 |
200 |
|
Проведение НИОКР |
200 |
150 |
100 |
50 |
25 |
300 |
250 |
200 |
150 |
100 |
|
Подготовка научных статей |
150 |
75 |
50 |
25 |
15 |
200 |
200 |
150 |
100 |
50 |
|
Участие в конференциях |
5 |
10 |
15 |
25 |
30 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
|
Внеучебная деятельность |
55 |
60 |
65 |
110 |
120 |
80 |
90 |
100 |
110 |
120 |
|
Кураторство групп |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Воспитательная работа |
25 |
30 |
35 |
80 |
90 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
|
Повышение квалификации и стажировки |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
73 |
|
Прочая нагрузка |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Суммарно за год |
1 943 |
2 112 |
2 331 |
2 595 |
2 859 |
1 846 |
2 033 |
2 169 |
2 306 |
2 443 |
Количество преподаваемых одним научно-педагогическим работником (НПР) предметов за рассматриваемый двенадцатилетний период увеличилось, о чем свидетельствует и приведенный расчет, и анализ структуры федеральных государственных и собственных образовательных норм вузов – при сопоставлении стандартов второго поколения (по которым были подготовлены учебные планы 2012 г.) и действующих на данный момент было выявлено, что доля самостоятельной работы студентов была увеличена (так как это соответствует мировым тенденциям и является необходимым условием обеспечения академической мобильности). В связи с тем, что деятельность преподавателя привязана к аудиторной, в 2012 г. при нагрузке в 900 часов необходимо было сформировать потоки из 8 групп, чтобы она была закрыта двумя предметами (при условии, что лекции и практику ведет один преподаватель), или 5 групп, если предмет включал лабораторные работы, при выполнении которых группу делили пополам, то в 2024 г. для того, чтобы преподаватель продолжал вести те же два предмета и выполнять нагрузку на полную ставку, в потоке должно было быть уже 12 групп, а разница между практиками и лабораторными работами исчезла. В результате при равном количестве часов на ставку фактическая длительность нахождения преподавателя в аудитории увеличилась минимум в 1,5 раза при параллельном двукратном снижении времени на подготовку к занятиям. В реальности изменение оказалось еще более значимым, так как в университетах отсутствуют потоки из 12 групп за исключением «сквозных» предметов первого курса – как следствие, преподаватель, который ведет профильные дисциплины в потоках на 1–2 группы, для выполнения 900-часовой нагрузки должен вести 5 или 6 предметов в осеннем или весеннем семестрах. При этом времени на проверку самостоятельной работы обучающихся, их консультирование, подготовку учебно-методических материалов по нормам 2024 г. у него остается меньше. В результате субъективно объем нагрузки для него вырос как минимум в 2,5–3 раза (при потоках в 5–7 групп), а максимально – в 6–8 раз (при потоках в 1–2 группы). Последние в вузах практически не встречаются (исключение составляют общие дисциплины на ранних курсах) – в первую очередь потому, что это противоречит практике индивидуализации образовательной траектории. Как следствие, большая часть преподавателей вузов ведет дисциплины на 1–2 группы (в особенности, если речь идет о профильных дисциплинах старших курсов), и субъективная нагрузка для них выросла в 6 раз – вместо 1 предмета, который такой преподаватель вел в 2012 г. на специалитете, нужно готовиться к занятиям по 5 разным предметам с пропорциональным ростом учебно-методической документации. Зарплата при этом тоже выросла, но в среднем – в 2,5 раза за выполнение учебной нагрузки, что соответствует повышению интенсивности труда только у незначительной части ППС. При этом и резерв рабочего времени у педагогов отсутствует, то есть любая дополнительная учебная нагрузка (например, разработка нового курса, учитывающая технологические изменения) возможна только при условии невыполнения основных обязанностей либо при формальном соблюдении части обязательных требований (отсутствие проверки самостоятельной работы, сокращение времени подготовки к занятиям или переход на создание учебно-методической документации с использованием, например, генеративного искусственного интеллекта). Это обстоятельство объясняет крайне низкую вовлеченность среднестатистического преподавателя в академическую мобильность, создание индивидуальных образовательных траекторий, сетевые образовательные программы, проектную деятельность, организацию практической подготовки и работу базовых кафедр – на все это у него не хватает времени, которое занято исполнением основных должностных обязанностей. Результатом становится снижение качества учебного процесса и ухудшение социально-психологического климата в высшей школе. Учебный процесс ухудшается, и вузы теряют привлекательность для абитуриентов (в первую очередь тех, кто получил практико-ориентированную подготовку в СПО), и все меньше соответствуют требованиям работодателей. В результате возникает кадровый кризис уже в вузах – вместо средних зарплат в реальном секторе экономики, которые выпускник может получать уже через год работы, вузы предлагают аналогичную оплату – но через 8–10 лет труда без отпуска и при условии, что выпускник найдет время для подготовки и защиты диссертации и сможет получить ученое звание. Организовать же особые условия для молодежи было бы возможно при наличии резерва времени у штатных преподавателей, но, как мы убедились выше, его также нет. В результате высшая школа фиксирует постепенно увеличивающийся дефицит ППС и становится все менее востребованной работодателем.
Однако если применить приведенные выше расчеты и оценку уровня мотивации ко всем НПР вуза, невозможно объяснить, за счет чего произошел объективный фиксируемый рост публикационной активности, выполнения НИОКР, повышения активности вузов как центров технологического предпринимательства. Для анализа данного результата вновь обратимся к расчету, приведенному в табл. 1.
Снижение времени, выделяемого на реализацию учебного процесса, позволило увеличить нормы нагрузки для выполнения иных значимых видов деятельности НПР вуза – научной и воспитательной. В отличие от учебной нагрузки, в которой сокращение затрат времени ограничено продолжительностью занятия, повышение эффективности использования времени, необходимого для выполнения научной работы и проведения воспитательной работы, возможно за счет использования более современных технологий (что позволяет сократить непроизводительные затраты времени) либо за счет широкого применения механизмов кооперации (с другими научными центрами и в рамках самих научных коллективов). Как следствие, временные затраты высококвалифицированного научно-педагогического работника на подготовку и публикацию научной статьи могут на порядок расходиться с аналогичными затратами ППС, не включенного в научную коллаборацию и не имеющего доступа к современному оборудованию, тогда как нормы времени на реализацию этой задачи установлены одинаковыми. Из табл. 1 видно, что для тех ППС, кто выполняет 500–600 часов учебной нагрузки, общий объем временных затрат но новым нормам снизился на 5 %, а с учетом более эффективного использования времени для осуществления научной деятельности, а также имеющиеся возможности применения научных разработок для создания новых курсов или обновления уже реализуемых, снижение составляет и более заметную величину, что обусловливает более высокую результативность таких НПР и их высокий уровень удовлетворенности системой эффективного контракта.
Таким образом, будучи нерегулируемой в течение десятилетнего периода, система распределения нагрузки между НПР вуза достигла равновесия Нэша – вместо создания условий для максимальной вовлеченности сотрудников в научную деятельность последняя была сфокусирована в наиболее результативных научных центрах вузов, в которые осуществлялись материальные, финансовые и временные инвестиции, позволявшие этим центрам в течение десяти лет повысить свою результативность и выйти на максимальный уровень загрузки. Рост эффективности этих центров, вливаясь в средние показатели по вузу, нивелировал ухудшение показателей подразделений, качество работы которых постепенно снижалось, и позволял демонстрировать средний рост при нарастающем дисбалансе между подразделениями внутри вуза (средняя арифметическая между 5–8 подразделениями с большими НИОКР и публикациями и 50–55 подразделениями с низкими НИОКР и малым числом публикаций стабильно росла за счет первой составляющей, притом что вторая так и оставалась либо нулевой, либо близкой к нулю). Наблюдаемая во многих вузах остановка роста обусловлена тем, что дальше повышать эффективность использования рабочего времени в подобных центрах невозможно (они также достигли потолка ограничений по времени), а механизма привлечения остальных НПР к процессам развития не только не сформировалось, но имел место обратный процесс – в них были сконцентрированы временные затраты на необходимую, но не обеспечивающую роста деятельность, и продолжать это перераспределение также невозможно. Проводя аналогию с законом сохранения энергии, программы стимулирования развития высшей школы 2010-х гг. позволили переместить вузы на определенную высоту, при падении с которой их потенциальная энергия была преобразована в кинетическую и возник сопряженный рост научной и иной активности – но этот ресурс исчерпан, и необходимы иные подходы, которые позволят использовать имеющуюся внутреннюю энергию системы.
Заключение . Из проведенного исследования можно сделать несколько выводов в части обеспечения развития высшей школы в перспективе с учетом выявленных ограничений. В первую очередь, для предотвращения дальнейшего распространения практики фиктивного присутствия на рабочем месте при внедрении государственных программ модернизации высшей школы в условиях меняющихся под санкционным воздействием требований к обеспечению стабильного притока квалифицированных кадров на рынок труда, необходимо обеспечить сбалансированность заработной платы ППС и НПР и их временных затрат в рамках заключаемого ими с вузом эффективного контракта. Нам представляется логичным сделать это в формате фиксации сопряженного с исполнением заявленных в контракте требований баланса рабочего времени, включающего деятельность второй половины дня преподавателя, что позволит избежать превышения максимально допустимой годовой нагрузки в 1640 часов. При этом минимальный объем нагрузки на подготовку к занятиям, а также разработку и обновление учебно-методической документации, также необходимо зафиксировать на уровне учредителя, чтобы исключить вариативность в вузах. Введение данного ограничения позволит и не вовлеченным в активную научную деятельность преподавателям обеспечить надлежащий уровень качества преподавания дисциплин за счет выделения необходимого времени на подготовку к занятиям и своевременное обновление содержания курсов.
Таким образом, необходимо отметить, что настоящее исследование было проведено только на примере вузов Республики Татарстан (большинство которых базируется в г. Казань). Данная выборка составляет более 20 вузов и более 9 000 представителей профессорско-преподавательского состава, однако выявленные диспропорции могут быть следствием региональной специфики и не подтверждаться в других регионах. Вследствие этого верификацию полученных выводов целесообразно провести на базе нормативов, действовавших в других регионах на рассмотренном временном интервале, что является направлением наших дальнейших исследований.