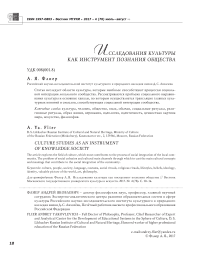Исследования культуры как инструмент познания общества
Автор: Флиер Андрей Яковлевич
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия культуры
Статья в выпуске: 4 (78), 2017 года.
Бесплатный доступ
Статья исследует области культуры, которые наиболее способствуют процессам социальной интеграции локального сообщества. Рассматриваются проблема социального выравнивания культуры и основные каналы, по которым осуществляется трансляция главных культурных понятий и смыслов, способствующих социальной интеграции сообщества.
Культура, человек, общество, язык, обычаи, социальные ритуалы, религиозные ритуалы, образ жизни, верования, идеология, идентичность, ценностная картина мира, искусство, философия
Короткий адрес: https://sciup.org/144161091
IDR: 144161091 | УДК: 008(001.8)
Текст научной статьи Исследования культуры как инструмент познания общества
ФЛИЕР АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Экспертно-аналитического центра развития образовательных систем в сфере культуры Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
FLIER ANDREY YAKOVLEVICH – Full Doctor of Philosophy, Professor, Chief Researcher of Expert and Analytical Center for the Development of Educational Systems in the Sphere of Culture, D. S. Likhachev Russian Institute of Cultural and Natural Heritage, Honored worker of higher professional education of the Russian Federation
Исследования родовых признаков человека как члена сообщества с той или иной интенсивностью велись наукой всегда, но они резко активизировались в XVIII веке в связи с описанием многочисленных «заморских» народов, особенно находящихся в состоянии «дикости» и «варварства» (по А. Фергюсону). Тогда же родилась наука антропология. В XIX веке к этому подключилась социология, начавшая исследовать общество как системную организацию людей (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер и другие). В ХХ веке обе науки достигли больших успехов в исследовании человека и общества. В середине ХХ века родилась культурология, однако в западной науке она не смогла институционально отделиться от антропологии, хотя ряд её направлений, в нашем понимании, относится именно к культурологии (например, британские cultural studies ). В СССР, где антропология в большой мере сводилась к описательной этнографии, культурология смогла выделиться в отдельную науку, исследующую культуру как родовой признак человека и основу его коллективной жизнедеятельности, в отличие от этнографических описаний культурных различий между народами.
Культурология за полвека своего существования предложила множество типологий культуры. Нужно сказать, что любая типология представляет собой условность, создаваемую учёными для удобства описания и исследования культуры. Сама же реальная культура (локальная культурная система) представляет собой информационное поле, некую информационную непрерывность, растекающуюся между людьми и связывающую их подобно цементному рас- твору в ту или иную социальную целостность. Конечно, конкретные культурные феномены обладают определёнными специфическими чертами, по которым и осуществляется их типологизация. Но большинство этих черт амбивалентно и ситуативно воздействует то на этническую консолидацию, то на сословную, то на религиозную. Поэтому в разных типологиях эти параметры относятся то к этническим, то к конфессиональным, то к иным типам.
Вместе с тем все культурные феномены так или иначе (непосредственно или опосредованно) работают на социальную интеграцию своего сообщества, что нормативной теорией культуры [9; 10, с. 24–31] определяется главной социальной задачей культуры в целом. Впрочем, необходимо отметить, что некоторые отрасли культуры отличает непосредственная целеустановка на обеспечение социальной интеграции сообщества, в то время как другие, тоже активно участвующие в социальной интеграции, специально этой цели не преследуют, а выполняют её латентно и ситуативно.
В рамках познавательных задач этой статьи можно предложить следующую типологию культуры, которая включает:
-
• язык [см.: 7], который как явление культуры делится на нормативный литературный язык (на котором написана большая часть классической национальной литературы, который преподается в школе, изучается иностранцами и т.п.); на повседневный разговорный язык большей части населения; на профессиональные сленги (например, у врачей, музыкантов и т.п.); на социальные сленги (например, блатная «феня», ненормативная лексика и пр.); на региональные диалекты;
-
• обычаи [см.: 1] (этнические и социальные), в которых можно выделить домашние бытовые обычаи; соседские обычаи; профессиональные обычаи; этнические обычаи; сословные обычаи;
-
• социальные ритуалы [см.: 1], среди которых можно выделить обыденные ритуалы (вежливость, этикет, гостеприимство и т.п.); праздничные ритуалы (отмечание дней рождения, свадеб и юбилеев брака, встреча Нового года, проводы в армию и пр.);
-
• религиозные ритуалы [см.: 2], ко-
- торые можно разделить на храмовые ритуалы (богослужения, жертвоприноше-
- ния, инициация младенцев, отпевание покойников и пр.); на внехрамовые ритуалы (индивидуальные молитвы, домашнее отмечание религиозных праздников, похороны, поминки и т.п.); на религиозные ограничения в поведении и питании; паломничество;
-
• образ жизни [см.: 6], в котором выделяются профессиональная деятельность, влияющая на обыденное сознание человека; домашнее хозяйство; семейные отношения; отношения с дружеским окружением; предпочитаемые формы досуга (туризм, занятия спортом, увлечения, игры, вечеринки, антисоциальные формы досуга и пр.); информационное (СМИ) и интеллектуально-культурное (литературное и художественное) потребление; предпочитаемые предметы материального потребления (еда, одежда, обстановка дома, средства транспорта и связи и т.п.); пространственная организация образа жизни (включая жилище); временн а я организация образа жизни; витальное и бытовое обеспечение образа жизни (медицина, прачечные, ремонт, водо- и энергоснабжение и пр.);
-
• верования [см.: 2], которые можно поделить на верования, основанные на письменных «священных текстах», и на верования, основанные на устных народных преданиях;
-
• искусство [см.: 3], которое с позиций культурологии можно разделить на профессиональное художественное творчество, реализуемое в определённом социальном и политическом контексте; на самодеятельное художественное творчество, фольклор, тоже подверженный большому влиянию социального
контекста; на интерпретацию искусства потребителями, в которой также можно выделить:
-
– толкование искусства профессиональными интерпретаторами, в той или иной мере ангажированными доминирующей идеологией или оппозиционными настроениями;
-
– интерпретацию искусства рядовыми потребителями, не искушенными в профессиональных рефлексиях;
-
• философию [см.: 9], которую можно разделить на богословие; на внере-лигиозную философию (включая этику и эстетику); на околофилософскую публицистику;
-
• идеологию [см.: 8], которая делится на системную политико-культурную идеологию, пропагандируемую государством через СМИ, религиозные и общественные движения, в образовательных учреждениях и пр.; на массовую политическую мифологию, являющуюся «народной интерпретацией» официальной идеологии, приправленную слухами, мифами, сплетнями и т.п.;
-
• идентичность [5], в которой можно выделить самоидентификацию индивида по отношению ко всему человече-
- ству; самоидентификацию индивида по отношению к собственному этносу; самоидентификацию индивида по отношению к своей социальной группе;
-
• ценностную картину мира [см.: 11], в которой можно выделить систему идеальных ценностей, предпочитаемых теоретически; систему утилитарных ценностей, предпочитаемых человеком в практической жизни.
Вне нашего рассмотрения остался ряд явлений, которые также обычно относят к отраслям культуры, но которые могут быть оценены как чисто технические инструменты, обеспечивающие функционирование культуры, но не порождающие новые культурные формы. Это, во-первых, воспитание и образование , транслирующие культуру следующим поколениям (межпоколенную трансляцию не нужно путать с социальной трансляцией, которая решает совсем другие задачи: межпоколенная трансляция решает задачу исторического воспроизводства культуры, а социальная трансляция – задачу актуальной социальной интеграции). И, во-вторых, гуманитарная наука – как инструмент саморефлексии культуры, познания ею самой себя. Они обслуживают имеющуюся культуру, но новую культуру не порождают (в том смысловом понимании культуры, что рассматривается в настоящей статье).
Что касается человеческого общества, то тут важно понять взаимосвязь системы идеальных ценностей с повседневным образом жизни. Идеальные ценности через идеологию влияют на обычаи, социальные и религиозные ритуалы, которые в совокупности составляют наиболее существенную часть образа жизни. А нормы образа жизни через язык по- полняют систему идеальных ценностей и постепенно становятся её основой.
Исследуя систему идеальных ценностей какой-либо локальной культуры, можно реконструировать основные параметры образа жизни населения, а исследуя его образ жизни, можно выстроить модель системы его идеальных ценностей. Локальная культура начинает пониматься как система взаимосвязанных сосудов. В качестве отрасли культуры мы выделяем тот или иной сосуд и сосредотачиваем на нём внимание. Но мы редко задумываемся над тем, что при этом работает вся система, где всё взаимосвязано и влияет друг на друга, что приводит к определённому выравниванию культуры.
Конечно, подобное социальное выравнивание культуры относительно. В истории между культурами аристократии (интеллектуалов) и простого малограмотного народа сохранялся существенный разрыв, в большой мере связанный с аналитическими задачами, которые им приходилось решать. И даже сейчас, при отсутствии социального (сословного) неравенства, культурное неравенство между людьми очень заметно. Но всё же определённое выравнивание понятий и смыслов в этническом (позднее национальном) масштабе происходило. Иначе культура не обладала бы целостными атрибутивными этническими / национальными чертами.
Главными каналами, по которым происходит это понятийно-смысловое выравнивание, являются идеология и язык. Если в первобытную эпоху большого разрыва между культурой вождей и остального племени не наблюдалось [см.: 4], то в аграрную эпоху разрыв между культурами аристократии и плебса уже был очень большим. Новые смыслы рождались преимущественно в культуре аристократии и транслировались «вниз» главным образом с помощью идеологии, функции которой в ту эпоху полностью монополизировала религия. Мы хорошо знаем о том, какую общекультурную выравнивающую роль в аграрную эпоху играла религия.
В индустриальную эпоху информационный тренд поменялся. Новые понятия и смыслы рождались уже в низовой среде и транслировались «наверх» с помощью языка по каналам литературы, а позднее печатных и электронных СМИ. Конечно, писателями в основном были выходцы из высокообразованных слоёв (хотя бывали и исключения), но уже журналисты к аристократии отношения явно не имели. Так или иначе, но новые понятия и смыслы черпались в основном в массовой городской среде, попадали на страницы книг, газет и журналов и становились общекультурными. В индустриальную эпоху в общенациональном культурном выравнивании большую роль начало играть и массовое образование, внедрявшее в культуру национальные стандарты языка и общей эрудиции.
В результате наступления постиндустриальной эпохи, стирания последних следов социального неравенства и возобладания массовой культуры функции трансляции новых культурных понятий и смыслов в общекультурном масштабе ещё больше закрепились за СМИ, а соответственно, и за языком, на котором эти смыслы транслируются.
Необходимо коснуться и особой роли искусства и философии в процессе социальной трансляции культурных смыслов. В аграрную эпоху полноценный контакт с искусством и философией могли иметь только высшие сословия (аристократия и духовенство). Для низших сословий социальным транслятором культурных смыслов была религия, и основная масса населения видела искусство преимущественно в религиозных формах и воспринимала его как часть религиозного культа (пожалуй, за исключением театра). Тем более народная масса не владела каким-либо знанием философии.
В индустриальную эпоху новые куль- турные смыслы стали рождаться в народной массе, и их транслятором уже никак не могла быть религия (социальное влияние которой в ходе урбанизации и роста массовой грамотности с середины XIX века заметно ослабло). И религию в ка- честве транслятора культурных смыслов начало вытеснять искусство (в первую очередь художественная литература).
Однако это продолжалось недолго. «Торжество книги» в культуре масс продержалось примерно с середины XIX века – по середину ХХ века. Увлечение буржуазной среды классической музыкой, живописью, театром тоже было недолгим. Уже в конце XIX – начале ХХ века городское население Европы и Америки начало переключаться с высокой культуры на массовую художественную культуру, с литературы – на кино, с симфоний – на песни, с живописи – на фотографию и т.д., во многих своих чертах родственных «бульварной журналистике». Массовая культура в XIX веке начиналась с оперетты, ресторанных куплетистов, с увлечения «цыганщиной», в Америке родился негритянский джаз. В первой половине ХХ века постепенно оформилась эстрадная музыка, вместе с кино определившая стилистику массовой культуры.
Основными каналами социальной трансляции культурных смыслов стали массовая культура и СМИ (всё больше сближавшиеся по своим социальным чертам с массовой культурой, особенно на телевидении). Высокое искусство, как и философия, остались предметом интереса в основном гуманитарной интеллигенции («людей книги»). До какой степени уместно сегодня говорить об искусстве и философии как социальных трансляторах культурных смыслов – не ясно. Они выполняют эту функцию только по отношению к гуманитарной интеллигенции. Рассуждать об этом тем более сложно в современной ситуации перехода от книжной культуры к экранной.
Однако не будем забывать, что и массовая художественная культура – это тоже искусство, но с принципиально иной социальной функцией. Высокое искусство на протяжении большей части своей истории было компонентой религиозного обряда и выполняло общую с ним функцию воспитания и умственного развития верующих. Эта функция культурного воспитания и развития сохранилась за высоким искусством и в Новое время. Массовое же искусство предназначено только для развлечения. А развлечение никогда не требовало большой концентрации смыслов, и массовая культура не очень сосредотачивается на них. К функции развлечения тоже нужно относиться серьёзно, поскольку заполнение досуга людей сегодня является большой социальной проблемой. Но это уже иная проблема, не имеющая отношения к вопросам, обсуждаемым в этой статье.
Таким образом, мы имеем возможность глубже понять взаимосвязанность всех отраслевых составляющих культуры, процесс её содержательного выравнивания как компенсации социальной неравномерности общества, основные каналы и передаточные механизмы трансляции основных культурных понятий и смыслов между социальным «верхом» и «низом». Всё это является важной характеристикой повседневного функционирования культуры, редко попадающего в зону внимания исследователей.
Список литературы Исследования культуры как инструмент познания общества
- Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие / отв. ред. Ю.В. Бромлей. Москва: Наука, 1989. 246 с.
- Зубов А.Б. История религии: курс лекций / Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Кафедра философии. Москва: МГИМО-Университет, 2006.
- Каган М.С. Морфология искусства. Часть 1-3: Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Ленинград: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1972. 440 с.
- Малиновский Б. Динамика культурных изменений. Исследование расовых отношений в Африке // Избранное. Динамика культуры / [пер. с англ.: И.Ж. Кожановская, В.Н. Порус, Д.В. Трубочкин]. Москва: РОССПЭН, 2004. 958 с.
- Малыгина И.В. В лабиринтах самоопределения: опыт рефлексии на тему этнокультурной идентичности. Москва: МГУКИ, 2005. 282 с.