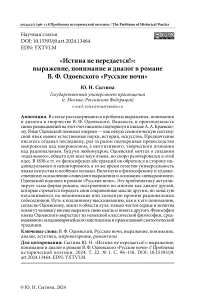«Истина не передается!»: выражение, понимание и диалог в романе В. Ф. Одоевского «Русские ночи»
Автор: Сытина Ю.Н.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 1 т.22, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы выражения, понимания и диалога в творчестве В. Ф. Одоевского. Важность и оригинальность своих размышлений на этот счет писатель подчеркнул в письме А. А. Краевскому. Язык Одоевский понимал широко - как некую семиотическую систему: свой язык имеют естественные науке, история, искусство. Предпочтение писатель отдавал последнему, раз за разом подчеркивая превосходство микрокосма над макрокосмом, а интуитивного, творческого познания над рациональным. Будучи любомудром, Одоевский мечтал о создании «идеального», общего для всех наук языка, но скоро разочаровался в этой идее. В 1830-е гг. от философских абстракций он обратился в сторону индивидуального и неповторимого, в то же время отметив универсальность языка искусства и особенно музыки. Вплотную к философскому и художественному осмыслению словесного выражения и осознания «невыразимого» Одоевский подошел в романе «Русские ночи». Эту проблематику актуализирует сама форма романа, построенного во многом как диалог друзей, которые стремятся передать свои сокровенные мысли другим, но зачастую наталкиваются на непонимание или холодную иронию рациональных собеседников. Путь к подлинному высказыванию, как и к его пониманию, согласно Одоевскому, лежит в области духа: только чистое сердце и молитва помогут человеку вполне выразить свою мысль и понять другого. Философия языка Одоевского вырастает из немецкой классической философии, средневекового западноевропейского мистицизма и православной святоотеческой традиции.
В. ф. одоевский, русские ночи, выражение, понимание, диалог, эстетика, мировоззрение, романтизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147243498
IDR: 147243498 | DOI: 10.15393/j9.art.2024.13464
Текст научной статьи «Истина не передается!»: выражение, понимание и диалог в романе В. Ф. Одоевского «Русские ночи»
В начале Предисловия к Сочинениям 1844 г., формулируя главную проблематику своих художественных и философских исканий, В. Ф. Одоевский писал о том, что «душа человека стремлением необоримой силы <…> обращается к задачам, коих разрешение скрывается во глубине таинственных стихий, образующих и связующих жизнь духовную и жизнь вещественную»1. Поиску ключей к этим «стихиям», созиданию языка для их выражения и передачи своих познаний другим посвящено все творчество писателя и особенно философский роман «Русские ночи». Еще в 1832 г. Одоевский заметил, что все мысли и вопросы людей сводятся к « сущности существования ». Человек чувствует эту « сущность », но выразить не может: «…слово просит другого, это слово третьего, и так до беско-нечности»2. Невозможно объяснить словами чувства благоговения или восторга, но мы понимаем их, «входя в храм, вслушиваясь в музыку, читая стихи, в коих совсем дело не идет ни о восторге, ни о благоговении» ( Одоевский, 1982 : 37). Раз за разом герои Одоевского ищут пути для выражения чувств и переживаний, ведь «самые жестокие, самые ясные для нас терзания — те, которых человек передать не может» ( Одоевский, 1975 : 84–85). Писатель по-своему приближается к принципам популярной в современной нам психологии «письменной» терапии, говоря:
«Кто умеет рассказать свои страдания, тот вполовину уже отделил их от себя» ( Одоевский, 1975 : 85 ).
О значимости собственных размышлений над проблемами выражения и понимания Одоевский писал в частном письме А. А. Краевскому, отзываясь на критический разбор своих Сочинений В. Г. Белинским. Писатель сетовал на пристрастность критика, ослепленного культом разума, на его невнимание к главному в «Русских ночах», особенно к «наблюдениям над связью мысли и выражения», тогда как они «принадлежат к области, доныне еще никем не тронутой и в которой, может быть, разгадка всей жизни человека» (Одоевский, 1982: 103). Последующие исследователи не раз обращались к изучению этой проблематики в произведениях Одоевского. До сих пор наиболее авторитетно и подробно она проанализирована в обширном труде П. Н. Сакулина [Сакулин]. Ученый пишет об истоках интереса Одоевского к философии языка, касается его взглядов на проблемы выражения и понимания при рассмотрении отдельных произведений, публикует черновые заметки писателя на этот счет, но к раскрытию данной проблематики непосредственно в романе «Русские ночи» П. Н. Са-кулин не обращается. Обзор эстетических взглядов Одоевского 1820–1840-х гг. делает В. И. Сахаров, в том числе затрагивая вопросы философии языка [Сахаров]. А. В. Кореньков анализирует эксперименты Одоевского в сфере орфографии и пунктуации, отмечая, что подобные опыты зачастую далеко не случайны и «оказываются симптомами неких глубинных процессов, протекающих в художественном сознании эпохи» [Кореньков: 19]. А. В. Марцева пишет о поисках Одоевским «идеального языка» для выражения философских идей и перевода немецких философов на русский язык [Марцева]. Е. А. Тахо-Годи говорит о «возможных схождениях между философией языка Одоевского, зафиксированной в романе («Русские ночи». — Ю. С.) (например, чрезвычайно важная для автора проблема коммуникации), и лингвофилософскими воззрениями самого Лосева» [Тахо-Годи: 401]. Эту идею развивает Дж. Римонди, называя Одоевского «основоположником русской лингвофилософии» [Римонди: 411]. О «следе» философских раздумий Одоевского над языком в культуре XX в. пишет и М. В. Черкашина, анализируя образы Бетховена и Баха в поэтическом сборнике О. Мандельштама «Камень» [Черкашина]. Таким образом, проблемы понимания и выражения у Одоевского не раз становились предметами научных изысканий, в настоящей работе мы обобщим и дополним некоторые наблюдения, сосредоточившись главным образом на анализе романа «Русские ночи».
Язык Одоевский понимал широко — как некую семиотическую систему. На разных «языках» люди пытаются разгадать тайну бытия:
«…естествоиспытатель вопрошает произведения вещественного мира, эти символы вещественной жизни, историк — живые символы, внесенные в летописи народов, поэт — живые символы души своей» ( Одоевский, 1975 : 7).
Труды ученых и поэтов «истекают из одного источника», но «исторические символы» живут «жизнию неполною, в тесном мире планеты», и только поэтические — «жизнию безграничною, в бесконечном царстве поэта». И те, и другие не свободны от плена невозможности полного выражения, они «хранят внутри себя под несколькими покровами заветную тайну, может быть недосягаемую для человека в сей жизни, но к которой ему позволено приближаться» ( Одоевский, 1975 : 8).
В художественном творчестве и критических статьях Одоевский все время возвращается к проблеме адекватного выражения бытия в слове. Для первой трети XIX в. вообще характерно повышенное внимание к языку, вспомнить хотя бы споры «Беседы любителей русской словесности» с «Арзамасом», разнообразные стилистические опыты расцветающего романтизма: марлинизм, а затем освобождение от него, эксперименты в области пунктуации, «перевод» Пушкиным письма Татьяны на русский язык и многое другое (см., напр.: [Пеньковский]). Но Одоевского интересовал не только собственно русский литературный язык, а язык вообще, как таковой, философия языка. В этом интересе он также не был одинок. В частности, большое влияние на Одоевского оказал его учитель в Благородном пансионе — И. И. Давыдов, «русский Дежерандо» (см.: [Марцева: 15], [Сакулин; т. 1, ч. 1: 72–75]). Он будоражил умы учеников размышлениями о неточностях языка и превратностях перевода, говорил о необходимости выработать «всеобщий», однозначный язык. Эта задача непосредственно встала перед Одоевским-любомудром, когда он занялся переводами немецких философов, а также написанием собственных ученых сочинений. Возник вопрос: «…на каком языке должна говорить региональная философия, чтобы войти в состав универсальной?»
[Марцева: 17]. Важным делом для Одоевского-любомудра стало создание такого идеального языка. Впоследствии он признавался:
«Продолжительное чтение Платона привело меня к мысли, что если задача жизни еще не решена человечеством, то потому только, что люди не вполне понимают друг друга, что язык наш не передает вполне наших идей» ( Одоевский, 1975 : 191).
Но довольно скоро Одоевский убедился в неисполнимости этого грандиозного замысла, в частности, работая над универсальным словарем философских систем, который так и остался незаконченным:
«…труд был не по силам; на один философский словарь, как я понимал его, не достало бы человеческой жизни, а эта работа должна была быть лишь первой ступенькой для дальнейшей главной работы…» ( Одоевский, 1975 : 191).
От идеи создать некий абстрактный всеобщий язык Одоевский отходит все дальше в сторону индивидуального, частного, неповторимого. В 1830-е гг., по замечанию П. Н. Сакулина, писатель «уже не думает более о нормативной эстетике, а определенно провозглашает принцип относительности: каждое произведение искусства изящно в своей сфере, в своем месте и в свое время» [Сакулин; т. 1, ч. 1: 497]. От попытки рационально выстроить теорию прекрасного Одоевский переходит к осмыслению «природы поэтического инстинкта» [Сакулин; т. 1, ч. 1: 495]. Писатель не отказывается от стремления уловить нечто общее, присущее всем людям и национальностям, но это общее лежит уже в области не буквы, но духа, форма его произведений меняется и становится более «пластической» ( Одоевский, 1982 : 103)3.
« Сущность существования », по мнению Одоевского (разделяемому многими романтиками), наиболее полно может передать язык музыки, который ближе всего к невыразимому «внутреннему языку» человеческой души. В черновой заметке 1832 г. писатель сделает предположение, что «будет время, когда, может быть, все способы выражения сольются в музыку» ( Одоевский, 198 2 : 37). Органный мастер Албрехт из «Себастияна
Баха» в «Ночи восьмой» читает своему гениальному ученику целую проповедь о силе музыки:
«…одни ее неопределенные, безграничные звуки обнимают беспредельную душу человека; лишь они могут совокупить воедино стихии грусти и радости, разрозненные падением человека, — лишь ими младенчествует сердце и переносит нас в первую невинную колыбель первого невинного человека» ( Одоевский, 1975 : 121).
В то же время язык музыки парадоксален: в нем причудливым образом соединяются земное и небесное, материальное и духовное. Юный Себастиян Бах мучительно пытается постичь, каким образом «столь низкие предметы», как «огромные деревянные и свинцовые трубы» и другие детали органа, «порождают величественную гармонию» ( Одоевский, 1975 : 111). Композитора поражает то, что грубая материя в руках человека становится проводником божественной мелодии. Размышляя над этим парадоксом, В.-Г. Вакенродер писал: «Я смотрю — и не вижу ничего, кроме жалкой паутины числовых соотношений, вещественно выраженных в просверленном дереве, в совокупности струн, сделанных из кишок и медной проволоки. — От этого все становится еще удивительнее, и я верю, что не иначе как незримая арфа Господня присоединяется к нашим звукам и придает человеческой паутине чисел небесную силу» [Вакенродер:162].
В том же роде высказывается и Албрехт Одоевского, замечая, что «лишь душа, погруженная в тихую, безмолвную молитву, дает душу и его (органа. — Ю. С. ) деревянным трубам, и они, торжественно потрясая воздух, выводят пред нею собственное ее величие» ( Одоевский, 1975 : 123). Органный мастер видит в усовершенствовании музыкальных инструментов одну из важнейших задач человечества в целом, так как «в простых, грубых трубах сокрыто таинство возбуждения возвышеннейших чувств в душе человека; каждый новый шаг их к успеху приближает их к той духовной силе, которой они должны служить выражением; каждый новый шаг их есть новая победа человека над жизнию, над этим призраком, который, смеясь над усилиями ума, с каждым днем становится ужаснее и грозит в прах разрушить скудельный сосуд человека» ( Одоевский, 1975 : 121).
Так технический прогресс способствует духовному совершенству, преобразование формы — прояснению содержания.
Но в том же «Себастияне Бахе» оказывается, что язык органа может быть слишком абстрактен и сух — он не в силах утешить стареющую Магдалину, в душе которой запоздало проснулась страсть. Другую, противоположную, опасность таит в себе пение:
«…голос исполнен страстей человеческих; незаметно — в минуту самого чистого вдохновения — в голос прорываются звуки из другого, нечистого мира…» ( Одоевский, 1975 : 123).
Впоследствии наиболее полным проводником « невыразимого » станет для Одоевского церковное пение, он придет к выводу:
«В нашем отечестве искусство церковное непрестанно входит в интересы текущей жизни. Это не прошедшее, а великое дело настоящего и будущего России. Древнерусское искусство есть вместе и искусство церковное, и по преимуществу национальное России современной»4.
Рассуждая над судьбами Баха и Бетховена из «Рукописи», Фауст и его собеседники вплотную подходят к вопросам выражения и понимания как таковых, но прежде всего их интересует слово, возможности и пределы речевой коммуникации между людьми. Эту проблематику актуализирует сама форма «Русских ночей», построенных во многом как диалог друзей, которые (Фауст, Ростислав, «рассказчики» в читаемой рукописи) стремятся выразить сокровенные мысли и передать их другим, но зачастую наталкиваются на непонимание или холодную иронию рациональных собеседников (Виктора и Вечеслава5). Принципиально важно, что рассуждения Фауста (во многом репрезентирующего позицию самого Одоевского), сколь бы пространными они порой ни были, — это все же реплики в разговоре, в устной , хотя и ученой беседе, все время «помнящей» о Другом и ждущей его отклика. П о замечанию В. В. Розанова, герой-повествователь
Одоевского — «предшественник всех "разговаривающих лиц" у Тургенева, его Лежнева и других, — предшественник философических диалогов у Достоевского» [Розанов]. Именно так роман Одоевского воспринимал И. С. Фудель. Вспоминая о встречах с С. Н. Дурылиным, он пишет:
«Я, придя вечером, часто оставался ночевать, спать ложился на полу на каком-то старом пальто, и тогда начинались "русские ночи" Одоевского: долгие разговоры о путях к Богу и от Бога, все те же старые разговоры шатовской мансарды, хотя и без Ставрогина»6.
«Ночь первая» — ожесточенный внутренний спор романтика Ростислава с воображаемыми адептами западноевропейского просвещения. Собственно философский диалог начинается в «Ночи второй» и именно с вопросов о возможности взаимопонимания и высказывания своего собственного слова, но не на уровне микрокосма (т. е. отдельного человека), а на уровне макрокосма — всего русского народа, русских как нации в диалоге культур: «…что мы за колесо в этой чудной машине? что нам оставили на долю наши предшественники?» ( Одоевский, 1975 : 13) — вопрошает Ростислав, и получает рациональный, западнический ответ от Виктора:
«Мы пришли позже других, — дорога проложена, и мы, волею или неволею, должны идти по ней…» ( Одоевский, 1975 : 13).
Еще более радикально высказывается Вечеслав:
«— Да зачем и говорить? <…> Все это вздор, господа. Чтоб говорить, надобно, чтоб слушали; век слушанья прошел: кто кого будет слушать?» ( Одоевский, 1975 : 13–14).
Суждение Вечеслава опровергает весь последующий текст романа, герои которого (как и сам Вечеслав) все же слушают друг друга, хотя и не всегда понимают и принимают чужие рассуждения. Главным оппонентом рационалистов Виктора и Вечеслава становится Фауст, прозвище которого актуализирует общечеловеческий контекст поднимаемой в « Русских ночах» проблематики.
Размышляя над вопросом Ростислава о русском слове в диалоге культур, Фауст обращается к сфере микрокосма, но не сужая, а, напротив, расширяя проблематику, давая ей универсальный характер (что как раз иллюстрирует убеждение о превосходстве микромира над макро-7):
«Вы хотите, чтобы вас научили истине? — Знаете ли великую тайну: истина не передается! Исследуйте прежде: что такое значит говорить ?» ( Одоевский, 1975 : 14).
« Говорить », согласно Одоевскому, может не только человек, но и книга, которая отделяется от своего творца и обретает самостоятельную жизнь в пространстве культуры. Так, в Предисловии к Сочинениям, пускаясь в разъяснения по поводу формы «Русских ночей», Одоевский внезапно останавливается и предоставляет «слово» самому роману, поскольку «сочинения, имеющие притязание на название эстетических, должны сами отвечать за се бя» ( Одоевский, 1975 : 8–9; курсив мой. — Ю. С. )8.
В Эпилоге Одоевский устами Фауста создает грандиозный образ библиотеки:
«Мы все похожи на людей, которые пришли в огромную библиотеку: кто читает одну книгу, кто другую <…> заговорили, каждый говорит о своей книге, — как понять друг друга? <…> Если бы мы все читали одну и ту же книгу, тогда бы разговор был возможен, — всякий бы понял, с чего надобно начинать и о чем говорить. Дать вам прежде прочесть мою книгу — невозможно! — в ней сорок томов, напечатанных мелким, мучительным шрифтом! — читать ее — терзание невыносимое, невыразимое; листы в ней перемешаны, вырваны мукою отчаяния <…> нет! я не могу вам дать прочесть мою книгу, — вы ее отбросите с нетерпением…» ( Одоевский, 1975 : 174).
Образ книги разрастается здесь до символа — это и метафора человеческой жизни, и обретенный каждым индивидуальный опыт, и свод человеческой мудрости, и отражение людского отчаяния, тщетного вопрошания, «глада духовного». Как же возможен диалог, если у каждого человека — своя «книга»? Фауст предлагает «читать» общечеловеческие «книги»: Природу («она напечатана довольно четким шрифтом и на языке довольно понятном») и Человека ( «рукописная тетрадь, написана на языке мало известном и тем более трудном, что еще не составлено для него ни словаря, ни грамматики» (Одоевский, 1975 : 178) ) . Эти «книги» тесно взаимосвязаны, но предпочтение Фауст однозначно отдает последней:
«…когда вы в состоянии читать вторую книгу, тогда обойдетесь и без первой, но первая поможет вам прочесть вторую» ( Одоевский, 1975 : 178).
Соответствие между микро- и макрокосмом — одна из центральных идей в концептуально важном Предисловии Одоевского к Сочинениям 1844 г. В духе романтизма писатель даже историческому романисту вверяет творческую свободу, ведь «в ее (души. — Ю. С. ) естественном, т. е. вдохновенном состоянии, находятся указания вернейшие, нежели в пыльных хартиях всего мира» ( Одоевский, 1975 : 8). Аналогия между микро-и макрокосмом лежит и в основе известного высказывания Фауста:
«В начале XIX века Шеллинг был тем же, чем Христофор Коломб в XV: он открыл человеку неизвестную часть его мира, о которой существовали только какие-то баснословные предания — его душу !» ( Одоевский, 1975 : 15–16).
Теперь для изучения, описания и выражения этого мира нужно найти новый язык, как европейским путешественникам некогда нужно было искать общий язык с американскими индейцами. Возможность решения такой задачи во многом обусловливалась для Одоевского тем, что некогда человек обладал подобным даром: когда «был в самом деле царем природы; когда каждая тварь слушалась его голоса, потому что он умел назвать ее…» ( Одоевский, 1975 : 24). Слушалась именно потому, что он умел назвать. В средние века о такой власти мечтали алхимики и искали «язык, которого бы слушался и камень, и птица, и все элементы»9.
Каждый человек, особенно поэт, заключает в себе неповторимый мир и подчиняется «законам и условиям своего мира» ( Одоевский, 1975 : 8), который, в то же время, не является «монадой, не имеющей окон» (Г. В. Лейбниц), поскольку вдохновение исходит из единого горнего источника и люди разгадывают общую загадку: « сущность существования » универсальна. «Все художники трудятся над одним делом, все говорят одним языком: оттого все невольно понимают друг друга…» ( Одоевский, 1975 : 104), — проповедует рассказчик «Себастияна Баха». Он убежден в существовании «общего всем художникам» «таинственного языка», который мечтает постичь и открыть «простолюдинам» ( Одоевский, 1975 : 103–104).
Согласно эстетике романтизма, истинный поэт творит в «экстатическом состоянии», по вдохновению, используя «приблизительный язык, т.-е. символы», поскольку его не может удовлетворить повседневный язык, ибо он «есть произведение эпохи разума»10 (цит. по: [Сакулин; т. 1, ч. 1: 505]). Как же понять символический язык «простолюдинам»? Может ли помочь им поэт? Эти вопросы снова и снова поднимаются в «Русских ночах», начиная с эпиграфа к роману, взятого из романа И. В. Гёте «Годы странствий Вильгельма Мейстера», который в переводе звучит так:
«Позвольте же мне сперва говорить притчей. При трудно понимаемых вещах, пожалуй, только таким образом и можно помочь делу»11 ( Одоевский, 1975 : 7).
В «Ночи второй», знакомя собеседников с рукописью своих умерших друзей, Фауст тут же объявляет, что «правдоискатели» не только не нашли ответов на мучившие их вопросы о « сущности существования » — ни в «пыльных хартиях», ни в новейших философских трактатах, ни в путешествиях, — но пришли в полное недоумение:
«В самом ли деле мы понимаем друг друга? Мысль не тускнеет ли, проходя сквозь выражение? То ли мы произносим, что мыслим? Слух не обманывает ли нас? То ли мы слышим, что произносит язык? Мысли высоких умов не подвергаются ли тому же оптическому обману, который безобразит для нас отдаленные предметы? <…> И мы осмеливаемся думать, что смешение языков прекратилось?» ( Одоевский, 1975 : 24).
Подобные вопросы появляются и в других «ночах». Ответы на них будут предложены в Эпилоге, где Фауст много размышляет о проблемах выражения и понимания, замечая, что «тожество между мыслию и словом простирается лишь до некоторой степени», которую нельзя измерить рационально, нельзя передать другому — каждый должен сам «ощутить» ее в себе ( Одоевский, 1975 : 141). Путь к подлинному высказыванию лежит в области духа: только тогда человек сможет вполне выразить свою мысль, когда «его воля достигла до той степени высоты, где она уверена в своей искренности » ( Одоевский, 1975 : 142).
Душа художника непосредственно отражается в его произведении. Комментируя в «Ночи шестой» «Последний квартет Бетховена», Фауст ссылается на мнение гайдниста, утверждавшего:
«"…Бетховен, несмотря на свой музыкальный гений (может быть, высшей степени, нежели гений Гайдна), — никогда не был в состоянии написать духовной музыки, которая приближалась бы к ораториям сего последнего". — "Отчего так?" — спросил я. — "Оттого, — отвечал гайднист, — что Бетховен не верил тому, чему верил Гайдн"»12 ( Одоевский, 1975 : 85).
Непосредственно силу слова с состоянием души творца Одоевский связывает в письме к Е. П. Ростопчиной, говоря о том, что пером художника должна руководить «истинная любовь к Богу и человеку», а сам он должен становиться «чистым, некорыстным младенцем». Только пропущенные через горнило веры и любви мысли и чувства «возвещать людям не есть преступление; <…> лишь такие мысли и чувства переживают века и магическою силою действуют на людей даже без их сознания». Одоевский много пишет графине об ответственности за слово, ведь «из невинного по-видимому зерна может произрасти ядовитый плод» (цит. по: [Турьян: 8]).
Проблемы эстетики в таком миропонимании становятся экзистенциальными, а на поэта ложится тяжелое бремя ответственности. Задача художника выходит далеко за пределы царства собственно эстетики, ведь искусство преображает и дополняет мир «реальности»: «…не все досказывается мертвою буквою летописца», но то, что «умирает» в истории, «воскресает в поэзии» ( Одоевский, 1975 : 8). Как говорил Ф. Гёльдерлин и подчеркивал М. Хайдеггер: «Но чему пребывать и оставаться, о том выносят решения поэты» [Хайдеггер: 7]13.
Одоевский хорошо осознавал, что слово может служить злу и что язык — «опаснейшее из благ» [Хайдеггер: 7]. В письме Ростопчиной он прямо говорит о том, что «всякая бесполезная, суетная мысль, чувство, слово суть ступень к преступлению» (цит. по: [Турьян: 8]), и развивает религиозный взгляд на язык и бытие в целом. В «Русских ночах» религиозность уходит в подтекст, нередко прячась под масками учености, иронии или гротеска. Так, именно Луцифер14, по убеждению Фауста, пустил бродить по свету такие «бессмысленные слова: факт, чистый опыт, положительные знания, точные науки, и проч. т. п.» (Одоевский, 1975: 144). Эти слова затруднили подлинное понимание, заслонили для многих путь к истинному «прочтению» Природы и Человека.
Проблему понимания Одоевский также рассматривал в области духа. Размышляя о том, что «истина не передается», Фауст замечает:
«…говорить есть не иное что, как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово: если его слово не в гармонии с вашим — он не поймет вас; если его слово свято — ваши и худые речи обратятся ему в пользу; если его слово лживо — вы произведете ему вред с лучшим намерением» ( Одоевский, 1975 : 14–15).
Убеждение в необходимости созвучия душ для взаимопонимания, вероятно, возникло у Одоевского не без влияния философии немецкого мистика Я. Бёме. Свящ. П. Флоренский, также интересовавшийся трудами Бёме и во многом основывавшийся на его постулатах в своей философии языка, выскажет впоследствии во многом созвучную Бёме и Одоевскому мысль о том, что нужно «изучать не самые слова, но возбуждаемые ими переживания в духе, т. е. видеть в словах как бы живые образы, душа которых остается невредимой лишь при непосредственном проникновении к словам, обнаженным духом»15 (см. подробнее: [Павлюченков]).
Во многом философско-религиозному пафосу размышлений Одоевского о «невыразимом» близко «Silentium!» Ф. И. Тютчева. Поэт также соотносит макро- и микрокосм («Есть целый мир в душе твоей»16), отдавая предпочтение последнему, и ставит вопросы о выражении и понимании («Как сердцу выразить себя? // Другому как понять тебя?»), которые хотя и тяготеют к риторическим, но все-таки остаются вопросами. Близка размышлениям Одоевского и породившая немало споров знаменитая строка «Мысль изреченная есть ложь». Интерпретируя эту максиму, Вяч. Иванов заметил, что Тютчев всем своим творчеством совершил «подвиг поэтического молчания»: «…его немногие слова многозначительны и загадочны, как некие тайные знамения великой и несказанной музыки духа» [Иванов: 712]. Размышляя над пониманием «Silentium!» Вяч. Ивановым, как и другими поэтами-символистами, В. Н. Аношкина-Касаткина пишет, что они недооценивали «религиозноэстетическое отношение поэта к Слову» [Аношкина-Касаткина: 257], и соотносит «Silentium!» со святоотеческими размышлениями о молитве: «Святой (Нил Сорский. — Ю. С.) рассказывает о "таинственном пленении" молитвенной души, о ее просветлении в своих движениях "лучом высокого света", и о "пении", которое связано с молитвой, и они сменяют друг друга, и о душевной "тишине" — синониме безмолвия» [Аношкина-Касаткина: 259].
Исследовательница делает вывод, что Тютчев «восходит, насколько это для него возможно, к наставлениям православного святого» [Аношкина-Касаткина: 259]. Размышляя над знаменитой строкой «Silentium!», В. Н. Аношкина-Касаткина справедливо указывает на важность авторских знаков препинания для ее понимания. В автографе Тютчева (в отличие от прижизненных публикаций) в конце строки стоит «очень важное в смысловом отношении тире »: «Для Тютчева эта идея ("Мысль изреченная есть ложь") лишена категоричности законченности, универсальности, безусловности, напротив, она относительна, не завершена, <…> "ложь" появляется потому, что, "взрывая" глубины "души"-"сердца", можно замутить чистые ключи или звездные лучи духовности» [Аношкина-Касаткина: 261].
Святоотеческую традицию нужно учитывать и при истолковании «Русских ночей», хотя в случае с Одоевским она представляется не очевидной. Ее завуалированность во многом обусловлена сознательной установкой писателя, создававшего «Русские ночи» как светское произведение, предназначенное для людей, зачастую далеких от религии (таковы Виктор и Вечеслав в самом романе). Во многом выражая общепринятый взгляд на мировоззрение Одоевского, Дж. Римонди, сделавшая глубокий сравнительный анализ философии языка у Одоевского и А. Ф. Лосева, подчеркивает, что у обоих мыслителей «язык как таковой имеет религиозно-философский статус», но «мыслители пришли к своим концепциям по-разному: у Лосева это прежде всего влияние византийской традиции (энергетизма Григория Паламы) и имяславия, у Одоевского — влияние средневекового мистицизма и немецкой классической философии» [Римонди: 420]. Однако о значимости для Одоевского православной святоотеческой традиции свидетельствует он сам, например, когда в цитированном выше письме Е. П. Ростопчиной советует графине обратиться к чтению «Добротолюбия» и особенно выделяет «статью» «О молитве молчания». Одоевский горячо пишет о важности молитвы и заклинает графиню «чаще прибегать к сему единственному отрадному художеству, как говорили святые отшельники» (цит. по: [Турьян: 9]). О важности молитвенной практики в человеческой жизни Одоевский беседует и при личной встрече с Шеллингом, а вывод из разговора с немецким философом делает такой: «Шеллинг стар, а то, верно бы, перешел в православную церковь» (Одоевский, 1982: 140). К спасительной силе молитвы не раз прибегают герои Одоевского (см.: [Сытина, 2015, 2022], [Терешкина]), в том числе в новелле «Бал», вошедшей в состав «Ночи четвертой». Несмотря на это, только в немногих научных работах о «Русских ночах» учитывается важность для Одоевского византийской традиции (см.: [Гаврюшин], [Даренский]).
Таким образом, философия языка Одоевского вырастает из немецкой классической философии, средневекового западноевропейского мистицизма и православной святоотеческой традиции. Путь к словесному выражению «сущности существования», как и к пониманию Другого, согласно Одоевскому, лежит в области духа: только чистое сердце и молитва помогут человеку вполне передать свою мысль и понять чужую, только созвучие душ может послужить основой для подлинного диалога, к которому можно и нужно стремиться. Чтобы полнее выразить идеи и по возможности понятнее передать чувства в собственных произведениях, Одоевский раз за разом прибегает к «экспериментальному методу» [Сакулин; т. 1, ч. 2: 289], ставя в произведениях разнообразные эстетические «опыты»: нарушения классической композиции («Княжна Мими»), эксперименты со знаками препинания («Два дни из жизни земного шара», «Пестрые сказки»), призванные «взорвать» привычный уклад письма, предать сочинениям экспрессивность и живость устной речи. «Экспериментальны» и «Русские ночи», где репликами в беседе становятся не только те или иные размышления, но и художественные образы, за которыми стоит целая жизнь. Человек (воплощающий его художественный образ) здесь превращается в слово, но не мертвую овеществленную иллюстрацию, а в сгусток живой жизни, и вступает в общий диалог, причем не в малом времени своего бытия в этическом поле конкретного текста (повести или новеллы), но в большом времени романа-симфонии: в душах друзей-путешественников Фауста (авторов «рукописи»), затем в беседах Фауста с друзьями, а потом и в сознании читателя. Именно в этом, последнем, «бытии» художественных образов возможно объединение множества разноречивых «голосов» «Русских ночей» в едином хоре, обретение некой «соборной» правды, где «соборно организованный "хор" голосов пытается преодолеть этот монологизм ("ложь") индивидуальной точки зрения» [Есаулов: 127]17. Но обретение этой «правды», согласно убеждениям самого Одоевского, произойдет только тогда, когда внутренний голос читателя будет созвучен авторскому.
Список литературы «Истина не передается!»: выражение, понимание и диалог в романе В. Ф. Одоевского «Русские ночи»
- Аношкина-Касаткина В. Н. Православные основы русской литературы XIX века. М.: Пашков дом, 2011. 384 с.
- Вакенродер В.-Г. Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977. 264 с.
- Гаврюшин Н. Г. Метафизика, историософия и религиозный идеал князя В. Ф. Одоевского // Исследования по истории русской мысли. Ежегодник за 2016–2017 гг. М.: Модест Колеров, 2017. С. 486–512.
- Грешных В. И. Фрагмент о фрагменте // Слово.ру: Балтийский акцент. 2012. Т. 3. № 4. С. 129–139 [Электронный ресурс]. URL: https://journals.kantiana.ru/upload/iblock/4e4/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8B%D1%85%20129-139.pdf (19.11.2023).
- Даренский В. Ю. «…На развалинах дряхлой Европы»: Россия как метафизический топос и художественный символ в «Русских ночах» В. Ф. Одоевского // Литература и философия: от романтизма к ХХ веку. К 150-летию со дня смерти В. Ф. Одоевского. М.: Водолей, 2019. С. 294–306.
- Есаулов И. А. Пасхальность русской словесности. М.: Кругъ, 2004. 560 с.
- Захаров В. Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 109–114 [Электронный ресурс]. URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=52 (19.11.2023).
- Иванов Вяч. Поэт и Чернь // Иванов Вяч. Собр. соч.: в 4 т. Брюссель: Foyer Oriental Chrétien, 1971. Т. 1. С. 709–714.
- Кореньков А. В. Пунктуация и слово-музыка в философском мифе В. Ф. Одоевского // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. 2001. № 5. С. 19–24.
- Марцева А. В. Концепция «идеального языка» В. Ф. Одоевского // Философское образование. 2004. № 1. С. 11–20.
- Павлюченков Н. Н. Философия слова и языка в трудах священника Павла Флоренского // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 2009. Т. 1. № 19. С. 125–129.
- Пеньковский А. Б. Исследования поэтического языка пушкинской эпохи. М.: Знак, 2012. 660 с.
- Римонди Дж. Проблема выражения смысла в культурфилософских концепциях языка В. Ф. Одоевского и А. Ф. Лосева // Литература и философия: от романтизма к ХХ веку. К 150-летию со дня смерти В. Ф. Одоевского / отв. ред. Е. А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2019. С. 411–422.
- Розанов В. В. Чаадаев и кн. Одоевский // Одоевский В. Ф. Записки для моего праправнука. М.: Русский Миръ, 2006 [Электронный ресурс]. URL: https://traumlibrary.ru/book/odoevskiy-zapiski/odoevskiy-zapiski.html#s005002 (19.11.2023).
- Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель — Писатель. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1913. Т. 1. Ч. 1. 616 с.; Ч. 2. 480 с.
- Сахаров В. И. Движущаяся эстетика В. Ф. Одоевского // Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. М.: Современник, 1982. С. 5–22.
- Сытина Ю. Н. Икона в художественной прозе В. Ф. Одоевского // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. Вып. 13. С. 161–173 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1449768369.pdf (19.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2015.2921
- Сытина Ю. Н. «Дважды два — математика. Попробуйте возразить»: возражения Достоевского и русской классики // Достоевский и мировая культура: альманах. СПб.: Серебряный век, 2018. № 36. С. 47–55.
- Сытина Ю. Н. Творчество В. Ф. Одоевского в большом времени русской культуры. СПб.: РХГА, 2022. 336 с.
- Тахо-Годи Е. А. О восприятии творчества В. Ф. Одоевского А. Ф. Лосевым: явное и потаенное // Литература и философия: от романтизма к ХХ веку. К 150-летию со дня смерти В. Ф. Одоевского / отв. ред. Е. А. Тахо-Годи. М.: Водолей, 2019. С. 397–410.
- Терешкина Д. Б. Религиозная идея повести В. Ф. Одоевского «Необойденный дом» // Проблемы исторической поэтики. 2022. Т. 20. № 1. С. 149–167 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1645105941.pdf (19.11.2023). DOI: 10.15393/j9.art.2022.10582
- Турьян М. А. Владимир Одоевский и Лермонтов: к истокам религиозных споров // Сборник статей к 60-летию В. Вацуро. “ImWerden Verlag”: некоммерческое электронное издание. Мюнхен, 2006. С. 1–13 [Электронный ресурс]. URL: https://imwerden.de/pdf/turjan_odoevsky_i_lermontov.pdf (19.11.2023).
- Хайдеггер М. О поэтах и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль / сост., пер. с нем. и посл. Н. Болдырева. М.: Водолей, 2017. 240 с.
- Черкашина М. В. Диалог искусств как преодоление проблемы словесного выражения: от В. Ф. Одоевского к О. Э. Мандельштаму // Литература и философия: от романтизма к ХХ веку. К 150-летию со дня смерти В. Ф. Одоевского. М.: Водолей, 2019. С. 603–614.
- Шевцова О. Б. Наука о церковном пении в трудах князя В. Ф. Одоевского (опыт реконструкции): автореф. … дис. канд. искусствоведения. М., 2012. 26 с.