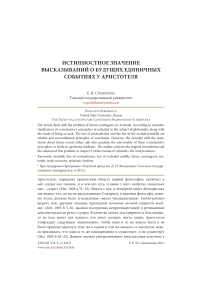Истинностное значение высказываний о будущих единичных событиях у Аристотеля
Автор: Спешилова Елизавета Ивановна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Право и философия: с аналитической точки зрения
Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию проблемы истинностного значения высказываний о будущих единичных событиях у Аристотеля. Отмечается, что в предметную область философии, согласно Аристотелю, помимо изучения сущего как такового, включается выяснение «начал умозаключения». К таким достоверным и безусловным началам относятся закон противоречия и закон исключенного третьего. Однако пример с высказываниями о будущих событиях либо ставит под вопрос универсальность указанных «начал умозаключения», либо приводит к «эпистемическому фатализму». Автор анализирует оригинальную постановку и решение этой проблемы в 9 главе трактата Аристотеля «Об истолковании».
Аристотель, закон противоречия, закон исключённого третьего, высказывания о будущих событиях, истина, необходимость, эпистемический фатализм
Короткий адрес: https://sciup.org/147103418
IDR: 147103418
Текст научной статьи Истинностное значение высказываний о будущих единичных событиях у Аристотеля
* При поддержке Программы «Научный фонд им. Д. И. Менделеева Томского государственного университета» в 2015 г.
Аристотель, определяя предметную область первой философии, включает в неё «сущее как таковое, и в чём его суть, и какие у него свойства, поскольку оно – сущее» (Met. 1026 a 31–32). Вместе с тем, в четвёртой книге Метафизики мы видим, что, согласно рассуждениям Стагирита, в ведении философа, помимо этого, должно быть и выяснение «начал умозаключения» [συλλογιστικῶν ἀρχῶν], или, другими словами, принципов познания «всякой сущности вообще» (Met. 1005 b 5–8), законов построения непротиворечивой и релевантной действительности речи о сущем. В качестве самого достоверного и безусловного из всех начал для всякого, кто хочет познать нечто сущее, Аристотель утверждает следующее: «невозможно, чтобы одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же в одном и том же смысле»; в частности, нельзя признавать, что одно и то же одновременно и существует, и не существует (Met. 1005 b 20–25). Данное «начало умозаключения» впоследствии получило в
ΣΧΟΛΗ Vol. 9. 2 (2015)
логике название закона противоречия; согласно этому закону, «обратные <друг другу> высказывания не являются вместе истинными» (Met. 1011 b 15–18).
Равным образом, согласно Аристотелю, «не может быть ничего посредине между двумя противоречащими <друг другу> суждениями, но об одном <субъекте> всякий отдельный предикат необходимо либо утверждать, либо отрицать» (Met. 1011 b 23–24). Иначе говоря, один из двух членов противоречия (p или ~p) с необходимостью должен быть истинным. Поскольку всё необходимо либо утверждать, либо отрицать, постольку утверждение и отрицание одного и того же в одном и том же отношении не могут быть вместе ложными. Указанное требование к процессу рассуждения в дальнейшем стало известно как закон исключённого третьего.
Таким образом, Стагирит, поставив вопрос об основных началах всякого доказательства, обосновывает в качестве таковых закон противоречия и закон исключённого третьего (Кубицкий 1999, 410), согласно которым производится адекватное познание всего сущего.
Однако у самого Аристотеля встречаются описания таких речевых ситуаций, в которых указанные выше требования могут быть поставлены под сомнение. В девятой главе трактата «Об истолковании» Аристотель обращается к проблеме высказываний относительно единичных будущих [ἕκαστα καὶ μελλόντων] событий (De interpr. 18 а 33–34). Эта проблема, на первый взгляд, либо ставит под вопрос универсальность и общезначимость закона исключенного третьего как начала познания всего сущего, либо (в случае признания этого закона) приводит к «эпистемическому фатализму», то есть к принятию того положения, что «истинность знания делает необходимым соответствующий факт» (Борисов 2014, 340–341). Иначе говоря, истинность некоторого высказывания о будущем событии, казалось бы, логически предполагает предопределённость этого события, необходимость того, чтобы указанное событие обязательно имело место в будущем положении дел.
Экспликация постановки данной проблемы у Аристотеля выглядит следующим образом: «Верно ли, что относительно единичного и вместе с тем будущего события всякое утверждение или отрицание истинно или ложно?» (Ми-келадзе 1978, 31–32). Если следовать закону исключенного третьего, то из противолежащих друг другу утверждения и отрицания «завтра морское сражение произойдёт» и «завтра морское сражение не произойдёт» одно должно быть с необходимостью истинным [ὥστ' ἀνάγκη τὴν κατάφασιν ἢ τὴν ἀπόφασιν ἀληθῆ εἶναι] (De interpr. 18 b 4). Пусть это так; тогда, делает вывод Аристотель, «ничего не существует и не происходит случайно [ἀπὸ τύχης] и как попало, <…> и всё совершается по необходимости [ἐξ ἀνάγκης]» (De interpr. 18 b 5). Согласно такому рассуждению, истинность высказывания «завтра морское сражение произойдёт» означает, что завтра морское сражение с необходимостью будет иметь место, то есть означает предопределённость морского сражения. Другими словами, «если бы дело обстояло во всякое время так, что одно <из противоречащих друг другу высказываний> истинно, то необходимо, чтобы произошло именно это; и со всем происшедшим дело всегда обстояло бы так, что оно произошло бы по необходимости» (De interpr. 19 а 1–5). В основании столь фаталистического заключения, как мы видим, лежит принятие закона исключенного третьего по отношению к высказываниям о будущих единичных событиях и, следовательно, идея необходимости всего того, что должно произойти.
Эта проблематика стала предметом активного обсуждения в аналитической философии. Различные варианты осмысления и решения проблемы высказываний о будущих событиях мы находим у Я. Лукасевича (1959), Г. Х. фон Вриг-та (1986) и Г. Райла (2000). Ян Лукасевич разрабатывает собственное решение этой проблемы в рамках построения многозначной логики, а также модального логического исчисления. Фон Вригт предлагает при решении проблемы высказываний о будущих единичных событиях проводить дистинкцию между темпоральной (несомненной и необходимой) и нетемпоральной (простой) истиной, а также различать закон исключённого третьего и закон бивалентности для того, чтобы избежать детерминизма. Г. Райл так описывает постановку проблемы, ведущей к фатализму: «то, что это произойдёт, было истинно до того, как оно произошло, иными словами <…>: то, что есть, должно быть» (Райл 2000, 384). Предложенное им решение состоит в том, что а) возникновение фатализма описывается как результат некорректного перенесения логически необходимого следования между высказываниями на причинноследственные отношения в действительности; b) референция к (единичному) несуществующему полагается невозможной, а «истинные или ложные пропозиции об объекте» признаются «возможными не прежде, чем объект начинает существовать» (Борисов 2014, 345). В том числе, согласно Райлу, утверждения в будущем времени не способны выражать единичное, а могут передавать лишь общие высказывания.
Вместе с тем, нельзя оставить без внимания тот факт, что собственный вариант решения данной проблемы мы можем обнаружить и у самого Аристотеля. Он отмечает, что в действительности «не всё существует и происходит в силу необходимости, а кое-что зависит от случая»; относительно таких случайных событий «утверждение ничуть не более истинно, чем отрицание» [οὐδὲν μᾶλλον ἢ ἡ κατάφασις ἢ ἡ ἀπόφασις ἀληθής] (De interpr. 19 а 19–20). Будущие события относятся к случайным и потому являются неопределёнными: по отношению к ним нельзя однозначно установить истинность или ложность соответствующего высказывания. Так, применительно к высказыванию о завтрашнем морском сражении, Аристотель утверждает, что «завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но это не значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно необходимо не произойдёт; необходимо только то, что оно произойдёт или не произойдёт» [λέγω δὲ οἷον ἀνάγκη μὲν ἔσεσθαι ναυμαχίαν αὔριον ἢ μὴ ἔσεσθαι, οὐ μέντοι γενέσθαι αὔριον ναυμαχίαν ἀναγκαῖον οὐδὲ μὴ γενέσθαι· γενέσθαι μέντοι ἢ μὴ γενέσθαι ἀναγκαῖον] (De interpr. 19 а 29–32). Необходимость в этом смысле относится к тому, что одно из про- тиворечащих высказываний должно быть истинным, то есть необходимо, что (p или ~p); но из этого не следует, что необходимо p или необходимо ~p. Кстати, очевидно, что приведённое выше рассуждение Райла о независимости хода реальных событий от логической необходимости в данном случае вполне согласуется с позицией Аристотеля.1
По сути, рассматривая высказывания о будущих событиях, Стагирит приходит к выводу о том, что закон исключённого третьего не является общезначимым: «относительно того, чтó есть и чтó стало, утверждение или отрицание необходимо должно быть истинным или ложным <…>; но не так обстоит дело с единичным и с тем, чтó будет» [ἐπὶ δὲ τῶν καθ' ἕκαστα καὶ μελλόντων οὐχ ὁμοίως] (De interpr. 18 а 28–34). В отношении последних мы не можем утверждать нечто определённое.
В связи с этим выводом полезно упомянуть о полисемии термина «сущее» в творчестве Аристотеля.2 Здесь для нас важно разделение сущего в возможности и сущего в действительности [ὄν δυνάμει καὶ ἐνεργείᾳ] (Met. 1026 b 1–2). Сущее в действительности (актуально сущее) – это то, что было в прошлом либо есть в настоящем; сущее в возможности (потенциально сущее) – то, чего ещё нет, но что может быть в будущем, нечто не необходимое и в то же время не невозможное. Учитывая эту дистинкцию, мы можем рассмотреть предложение «завтра морское сражение произойдёт» двояким образом. Определяя завтрашнее морское сражение как потенциально сущее, мы в момент произнесения этого высказывания не можем признать ни истинность того, что завтра морское сражение произойдёт, ни истинность того, что оно завтра не произойдёт, поскольку, исходя из сегодняшнего положения дел, оба варианта являются равновозможными. Так как, согласно Аристотелю, истинность предложения означает соответствие выраженной в нём мысли действительности, то и утверждение «завтра морское сражение произойдёт», и его отрицание сегодня не являются ни истинным, ни ложным.3 Следовательно, «в области потенциально сущего невыполнимы законы исключённости третьего и (невозможности) противоречия» (Микеладзе 1978, 41), а значит, угроза эпистемического фатализма даже не возникает. Но, если говорить о завтрашнем морском сражении в аспекте бытия в действительности, закон исключённого третьего и закон противоречия будут выполняться: завтрашнее положе- ние дел будет таково, что окажется верным либо то, что морское сражение произойдёт, либо то, что оно не случится; постфактум морское сражение не может быть произошедшим и не произошедшим одновременно.
Подводя итог, следует отметить, что здесь было рассмотрено употребление высказываний о будущих единичных событиях в качестве дескриптивных высказываний, то есть описывающих возможное будущее положение дел. Однако, те же самые высказывания могут употребляться в качестве прескриптивных, предписывающих определённое будущее действие (допустим, стратег может отдать приказ о том, что завтра состоится морское сражение). Такого рода высказывания требуют отдельного исследования.
Список литературы Истинностное значение высказываний о будущих единичных событиях у Аристотеля
- Аристотель (1978 а) Категории, пер. А. В. Кубицкого, Соч. в 4-х т. Т. 2. Москва: 51-90.
- Аристотель (1978 b) Об истолковании, пер. Э. Л. Радлова. Соч. в 4-х т. Т. 2. Москва: 91-116.
- Аристотель (1999) Метафизика, пер. А. В. Кубицкого. Ростов-на-Дону.
- Борисов, Е. В. (2014) «Боэций и Райл о фатализме», ΣΧΟΛΗ (Schole) 8.2, 339-346.
- фон Вригт, Г. Х. (1986) «Детерминизм и высказывания о будущих событиях», пер. А. С. Карпенко, Г. Х. фон Вригт. Логико-философские исследования. Москва: 539-554.
- Громов, Р. А. (2014) «Брентано о многозначности сущего у Аристотеля», ΣΧΟΛΗ (Schole) 8.2, 454-472.
- Кубицкий, А. В. (1999) «Что такое Метафизика Аристотеля?», Аристотель. Метафизика. Ростов-на-Дону: 403-427.
- Лукасевич, Я. (1959) Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики. Москва.
- Микеладзе, З. Н. (1978) «Основоположения логики Аристотеля», Аристотель. Соч. в 4-х т. Т. 2. Москва: 5-50.
- Райл, Г. (2000) Главы из книги «Дилеммы», пер. с англ. М. С. Козловой, Райл Г. Понятие сознания. Москва: 370-400.