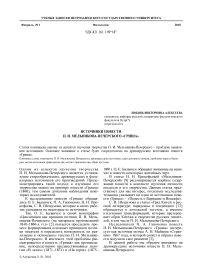Источники повести П. И. Мельникова-Печерского «Гриша»
Автор: Алексеев Любовь Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (106), 2010 года.
Бесплатный доступ
Творчество п. и. мельникова-печерского, древнерусские источники, идея духовного поиска, проблемы веры и безверия, мотив испытания праведничества, мотив странничества, образ пустыни
Короткий адрес: https://sciup.org/14749665
IDR: 14749665
Текст статьи Источники повести П. И. Мельникова-Печерского «Гриша»
Одним из аспектов изучения творчества П. И. Мельникова-Печерского является установление старообрядческих, древнерусских и фольклорных источников его произведений. Продемонстрировать такой подход к изучению его творчества можно на примере повести «Гриша» (1860), тем самым дополнив наблюдения некоторых исследователей.
К исследованию повести «Гриша» обращались О. Е. Баланчук, П. А. Гапоненко, Н. Н. Прокофьева, С. В. Шешунова, которые в своих работах указывали на некоторые ее источники.
Так, О. Е. Баланчук в своей монографии «Циклизация как принцип поэтики П. И. Мельникова-Печерского (на материале произведений 1840–1860-х гг.)» [2] пытается проследить процесс формирования основных принципов поэтики писателя и определить возможность их реализации в «ключевых» текстах П. И. Мельникова-Печерского. В контексте этой проблемы рассматривается и повесть «Гриша» как произведение, непосредственно предшествовавшее дилогии «В лесах» (1871–1874) и «На горах» (1875–
1881). О. Е. Баланчук обращает внимание на наличие в повести некоторых житийных черт.
В статье Н. Н. Прокофьевой «Мельников-Печерский» [9] рассматривается идейное содержание повести в контексте изучения личности писателя и его творчества. Данная статья представляет для нас интерес, поскольку исследовательница указывает на один из источников повести «Гриша» – «Повесть о Варлааме и Иоасафе».
С. В. Шешунова в статье «Град Китеж в русской литературе: парадоксы и тенденции» [12] обращается к китежской легенде, а именно к изучению трансформаций, которые претерпевает образ Китежа в творчестве русских писателей, в том числе П. И. Мельникова-Печерского.
Исследователя П. А. Гапоненко повесть П. И. Мельникова-Печерского «Гриша» интересует как источник поэмы А. Н. Майкова «Странник» 1867 года, в которой сюжет и образы повести получили свое развитие [3].
В данной работе мы обратим внимание на древнерусские источники повести П. И. Мельникова-Печерского.
Повесть «Гриша», вызвавшая противоречивые отклики современников П. И. Мельникова-Печерского, в своей основе имеет сюжет о юноше-старообрядце, который в поисках «истинной веры» становится соучастником преступления. В повести автором затрагивается проблема поиска «истинной веры» и «праведной жизни», проблема выбора героем своего жизненного пути.
Первоначально может сложиться впечатление, что идея повести П. И. Мельникова-Печерского сосредоточена исключительно на теме старообрядчества, о чем свидетельствует ее подзаголовок – «Из раскольничьего быта». Однако идейное содержание повести гораздо шире, чем просто изображение старообрядческого быта и обличение идеологии старообрядчества. К этой проблеме автор напрямую обратится позднее – в дилогии «В лесах» (1871–1874) и «На горах» (1875–1881). Здесь же на первом плане выступают идея духовного поиска героя, проблемы веры и безверия, поиска истины, как удачно было определено Н. Н. Прокофьевой, «проблемы истинных и ложных ценностей, вопросы религиозного сознания», ставшие центральными в творчестве ряда писателей второй половины XIX века, таких как Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков и другие [9; 24].
В жизни П. И. Мельникова-Печерского старообрядчество занимало особое место как проблема и государственная, и общественная. Писатель превосходно знал памятники древнерусской и старообрядческой письменности, изучал старообрядческие предания и легенды, собирал редкие документы, непосредственно наблюдал за жизнью старообрядцев. Связь повести «Гриша» с произведениями древнерусской и старообрядческой литературы очевидна. Среди источников повести следует назвать «Китежскую легенду», «Беседу трех святителей», «Повесть о Варлааме и Иоасафе». Можно говорить, в частности, о близости повести к житийному жанру.
П. И. Мельников-Печерский, раскрывая характеры своих героев, следует традиционной схеме построения сюжета в житии.
Так, в образе Евпраксии Михайловны Гусят-никовой, хозяйки дома, обращают на себя внимание некоторые житийные традиции. Основу содержания образа героини составляют черты, демонстрирующие ее религиозность, скитское мировоззрение: добродетель, кротость, вера в Священное Писание. Евпраксия Михайловна «ото всех людей почтена была за жизнь строгую, подвижную. Правдой жила: много потаенного добра творила она, много раздала тайной милостыни, и на смертном одре поднесла господу три дара: первый дар – ночное моленье, другой дар – пост-воздержанье, третий дар – любовь-добродетель» [6; 286]. Такой характеристикой автор знакомит нас с образом благочестивой вдовы в начале повести. Она следует библейской заповеди «Возлюби ближнего своего», давая всякому страннику, помянувшему имя Христово, приста- нище и хлеб-соль в своем доме, ведь, по ее словам, «все люди – Христовы человеки» [6; 293]. Всем своим образом жизни Евпраксия Михайловна приближается к идеалу праведничества. Многочисленные эпизоды повести, в которых она представлена, раскрывают ее религиозность. Она и детей воспитала в страхе Господнем и сама чтит Закон Божий.
Однако образ героини неоднозначен. Еще в начале повести другая сторона ее образа – купеческая деятельность: «На усадьбе Евпраксии Михайловны много жило народу: тут стояли заводы кожевенны, салотопны, свечной, клееварный, тут же кошму из шерсти валяли, овчины выделывали, одних работников что тут жило?» [6; 289]. Возможно, уже здесь скрывается мирское, суетное начало героини, которое открывается лишь в конце повести, после ее смерти. Но до этого оно не дает о себе знать на протяжении всего произведения.
Финальной сценой повести П. И. Мельников-Печерский разоблачил старообрядчество, показав, что денежные интересы для героини оказались важнее религиозных. Пропажа сундука с деньгами, который хранился не где-нибудь, а именно в моленной, приводит к необратимым последствиям: «Дня через три хоронили Евпрак-сию Михайловну – умерла в одночасье» [6; 322]. Социально-бытовое начало в образе Евпраксии Михайловны, обусловленное ее купеческой деятельностью, оказалось на переднем плане. И все же следует признать, что в ее образе сильны житийные традиции изображения героя-праведника.
Главный герой повести в своих религиозных поисках истинной веры проходит путь от веры к безверию. Автор ставит Гришу в такие жизненные ситуации, сталкивая с рядом второстепенных персонажей, что сомнения героя все больше и больше усиливаются. Препятствия, встающие на его пути, оказываются непреодолимыми.
История молодого келейника Гриши в повести начинается с рассказа о его детстве, во многом напоминающем детство святого. Гриша был круглым сиротой, отец которого умер от пьянства. Несмотря на это, он с раннего возраста несет на себе печать нравственного совершенства. Герой повести живет по вере своих предков-старообрядцев, узнавая о ней из богослужебных книг, житий подвижников, духовных песен. Как и святой, Гриша не по-детски серьезен, тих, послушен. Волей Господа, открывшего ему разум, Гриша осваивает грамоту. Отрешенность от всего мирского, погруженность в себя, смирение перед людской злобой, которую он принимает как благодеянье, соблюдение строгого жития – все это роднит Гришу с образом святого и позволяет говорить о его праведничестве. Может быть, не случайно имя Григорий (от греч. gregorios – «бодрствующий»), которым П. И. Мельников-Печерский наделяет своего героя, восходит к имени святых [11; 82]. Как раз такие качества привлекают внимание Евпраксии Михай- ловны, ищущей в помощь странникам человека, который «служил бы не из платы, а по доброму хотенью, плоть да волю свою умерщвлял бы, творил бы дело свое ради Бога» [6; 287].
Казалось бы, ничто не может свести Гришу с праведного пути, поколебать его добродетельность. Такое самоотречение становится серьезным испытанием воли и духа героя. Он готов на любой подвиг ради веры, но как раз эта самоотверженность и приводит его к преступлению.
Герой претерпевает духовные изменения, меняется и его идеал, воплощением которого является пустыня. Ее образ появляется в повести несколько раз. Первый раз она предстает как конечная цель мечтаний Григория:
О, прекрасная мати-пустыня!
Сам господь тебя, пустыню, похваляет: Отцы по пустыне скитались, И ангелы им помогали…
Прекрасная ты пустыня, Прекрасная ты раиня, Любимая моя мати!
Прими ты меня, мать-пустыня, От юности моей прелестной!
Научи меня, мати-пустыня,
Жить и творить божье дело! [6; 289]
В образе пустыни как символе счастья и спасения души про слеживается связь повести П. И. Мельникова-Печерского с древнерусской «Повестью о Варлааме и Иоасафе», на которую указывает сам текст произведения: Гриша с любовью читает «Повесть об индейском царевиче Асафе». Эта повесть, переведенная с греческого языка не позднее XI века, была широко распространена в древнерусской письменности. Ее сюжет был одним из самых известных в мировой литературе Средневековья и лег в основу более 140 версий повести более чем на 30 языках. Перевод этого произведения на русской почве вошел в состав Пролога [8; 653]. В повести рассказывается о царевиче Иоасафе, который, несмотря на волю отца, обращается в христианство пустынником Варлаамом, обращает и свой народ, а затем, оставив свое богатство и власть, уходит в пустыню.
Чтение «Повести об Индийском царевиче Иоасафе» воодушевляет Гришу повторить подвиг христианского подвижника, наводит его на глубокие размышления: «Вот – и царевич был, и царством владал, жил в белокаменных палатах, было у него золотой казны несметно, всяких сокровищ земных неисчетно… Променял же царские брашна на гнилую колоду, сладкие меда на болотну водицу…» [6; 288]. Эти образы ‒ «прекрасной матери-пустыни», царевича ‒ усиливают в Грише религиозное чувство.
Одержимый мечтой уйти от грешного мира в воспеваемую им «прекрасную мать-пустыню», подвизаться, как поступали святые, Гриша пытается найти себе духовного наставника, посколь- ку не способен решиться на такой серьезный поступок. Но он убеждается, что нет никого праведнее его. Гришу одолевает один из самых тяжких грехов – грех гордыни.
Следует отметить, что мотив испытания праведности, имеющий древнерусское происхождение, является бродячим, известным по некоторым патериковым легендам. Связь повести П. И. Мельникова-Печерского с этим мотивом можно продемонстрировать на примере легенды о Сергии из болгарского Сводного патерика (XIV век).
Легенда повествует о неком Пире, старце-пустынножителе, возомнившем себя самым праведным. Однажды он взмолился Богу и попросил указать ему, есть ли на свете человек праведнее его. Бог указал ему на Сергия из Александрии, старейшину над блудницами, принявшего иноческий образ. Когда старец узнал, что он, пребывавший много лет в служении Богу, оказался равным в праведности старейшине над блудницами, его одолел грех гордыни. Дальше сюжеты расходятся: в патеричном рассказе старец знакомится с более праведным человеком, чем он, и эта встреча приводит его к еще большему смирению перед Богом и очищению. Когда старец узнает от Сергия историю спасения им молодой женщины от греха и освобождении монахинь из осажденного воинами монастыря, он убеждается окончательно в том, что Сергий действительно праведнее его [7; 354–359].
В повести П. И. Мельникова-Печерского этого нет. Гриша втягивается еще больше в омут греха, теряя смысл своего подвижничества, который состоит в смирении пред Господом и постоянном противлении греху. И даже появление настоящего праведника Досифея, воплотившего идеал пустынножителя, к которому он стремился, неспособно поколебать уверенности Гриши в своей праведности и в том, что наиболее праведным занятием является борьба с «никонианской ересью», а не смирение пред волей Бога. В образе Досифея обнаруживается параллель с образом Варлаама из древнерусской повести: они оба в своих наставлениях высказывают мысль о том, что «споры о вере – грех перед Господом» [6; 308], [8; 225]. Однако слова До-сифея остаются непонятыми Гришей, поскольку душа юного келейника оказывается оскверненной человеконенавидением.
В отличие от святого, который побеждает искушения, Гриша терпит поражение за поражением. Поражение Гриши еще и в том, что он не сумел увидеть в Досифее истинного праведника, приняв его за «беса лукавого». Не выдерживает дух Гриши и в борьбе с «бесовской силой», явившейся ему в образе Дуняши, встреча с которой символизирует борьбу греховного и праведного начал. От искушения его не спасают ни строгий пост, ни истязание своего тела, ни молитвы. Плоть побеждает дух.
Все эти испытания, выпавшие на долю Гриши, не укрепляют душу героя, как в житийной литературе, а напротив, постепенно подводят его к окончательному поражению.
Раскрытию образа Гриши, борьбы греховного и праведного в душе героя способствует мотив странничества. П. И. Мельников-Печерский создает три образа странников, встреча с которыми порождает в герое душевные сомнения в том, есть ли на земле истинно верующий человек. Каждая такая встреча оказывается для Гриши еще одним шагом к падению.
В образах странников Мардария и Варлаама проявляется обличительный характер повести. Оба странника – грешники, они являются воплощением пороков – пьянства, женолюбства, пренебрежения постом. С их появлением в Грише зарождается мысль о том, что праведнее его никого на свете нет. Примечательно то, что эпизод повести, в котором странники удивляют слушателей своей «мудростью», имеет в основе литературный источник. В своем «ученом» диалоге они используют цитаты из «Беседы трех святителей», греческого апокрифического памятника, известного на Руси уже в XI веке. Апокриф построен в форме вопросов и ответов, изложенных от имени трех виднейших иерархов православной церкви – Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста [4; 89]. Можно проследить иронию П. И. Мельникова-Печерского в том, что он, демонстрируя «ученость» странников, нарочно выбирает из «Беседы» наиболее известные вопросы, которые отделились от сюжета памятника и перешли в фольклор. Например:
-
1. «Кто умре, а не истле?» – «Лотова жена – та умре, но не истле, понеже в столп слан пре-творися – соль же не истлевает. И доднесь тот славный столп стоит во стране Палестинской, на святой на реце Иордане» [6; 297].
-
2. «Что есть… ключ древян, замок воден, заяц убеже, ловец утопе?» – «Ключ древян – жезл Моисеев, замок воден – Чермное море, заяц убеже – Моисей со израильтяны, ловец потопе – Фараон зломудрый, царь египетский» [6; 297].
-
3. «Что есть… стоит град на пути, а пути к нему нету; идет посол нем, несет грамоту неписаную?» – «Град на пути – то Ноев ковчег, понеже плаваше по непроходному пути, сиречь по потопным водам: посол нем – то есть чистая голубица, а грамота неписана – то есть сучец масличный, его же принесе в ковчег голубица к Ною за уверение познания, что есть суша...» [6; 298].
Те же самые вопросы и ответы находим во многих списках «Беседы трех святителей», например в кижском [1; 157, 159]. Они проникли также в устную традицию, что указывает на их распространенность [10; 271].
Завершение развития образа Гриши связано с образом третьего странника Ардалиона, который окончательно губит душу героя. О характере этого героя в некоторой степени говорит семантика его имени. Имя Ардалион, от лат. ardelio, означает «праздный, суетливый человек» [11; 38]. Под влиянием рассказов странника Ардалиона о земном рае, граде Китеже, Кирилловских горах представления Гриши о смысле веры, о служении Богу искажаются.
П. И. Мельников-Печерский использует в качестве источника известную легенду о невидимом граде Китеже, который рисуется как Царство Божие на земле, населенное преподобными. Но в устах Ардалиона китежская легенда приобретает иной смысл. У Гриши складываются ложные представления о святом граде, попасть в который, по словам Ардалиона, можно лишь благодаря абсолютному послушанию наставнику, готовности совершить любой поступок.
Гриша, одержимый мыслью попасть в Царство Божие на земле, готовый полностью подчиниться воле наставника, приняв новое имя Герон-тий, в исступлении просит у своего наставника благословления и наконец решается на страшное преступление. Такой итог закономерен, Гриша на деле воплощает высказанную им однажды мысль: «Никониане!.. Укажи мне их, отче, укажи твоих злодеев… Я бы зубами из них черева повытаскал» [6; 307]. Здесь проявилась ложность представлений Гриши о том, что истинная вера – это слепое следование книжным заветам и борьба с теми, кто не разделяет этого убеждения.
Конец повести вновь отсылает нас к сюжету о Варлааме и Иоасафе. Нет больше того образа прекрасной матери-пустыни, о которой мечтал Гриша, желая повторить подвиг Иоасафа. Испытание праведности героя приводит его к окончательному падению. Гриша окончательно укрепляется в своих убеждениях, что не оставляет надежды на дальнейшее исправление героя.
Подобно древнерусскому агиографу, П. И. Мельников-Печерский повествует о герое, заостряя внимание на основных моментах его биографии (детские годы, юность, выбор жизненного пути, соблюдение строгого жития, испытания дьяволом), которые способствуют раскрытию идейного содержания повести – религиозные искания, поиск истинной веры. Но, в отличие от святого, Гриша обретает противоположный путь – путь ко греху.
Итак, проблема источников занимает важное место в изучении повести П. И. Мельникова-Печерского «Гриша». В исследованиях, посвященных ей, многие источники никак не упоминаются, однако анализ повести позволяет нам указать на некоторые из них.
Список литературы Источники повести П. И. Мельникова-Печерского «Гриша»
- Бабалык М. Г., Пигин А. В. Древнерусский апокриф «Беседа трех святителей» в кижской рукописи из коллекции крестьян Корниловых//Кижский вестник: Сб. ст. Петрозаводск, 2007. Вып. 11. С. 148-165.
- Баланчук О. Е. Циклизация как принцип поэтики П. И. Мельникова-Печерского (на материале произведений 1840-1860 гг.). Йошкар-Ола: МГПИ им. Н. К. Крупской, 2007. 144 с.
- Гапоненко П. А. О языке поэмы А. Н. Майкова «Странник»//Русская речь. 2000. № 6. С. 11-17.
- Лурье Я. С. Беседа трех святителей//Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л.: Наука, 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 89-93.
- Майков А. Н. Сочинения: В 2 т. М.: Правда, 1984. Т. 2. 576 с.
- Мельников П. И. (Андрей Печерский). Собр. соч.: В 8 т. М.: Правда, 1976. Т. 1. 368 с.
- О некоемь мужи именемь Сергие, иже и стареишии блудницамь быс(т), потом же иночьскыи образ възем и тако сп(а)се ся//Николова С. Патеричните разскази в българската средневековна литература. София: Издателство на българската Академия на науките, 1980. С. 354-359.
- Повесть о Варлааме и Иоасафе//Памятники литературы Древней Руси. XII век. М.: Худож. лит., 1980. С. 196-225.
- Прокофьева Н. Н. Мельников-Печерский//Литература в школе. 1999. № 7. С. 21-26.
- Садовников Д. Н. Загадки русского народа: сборник загадок, вопросов, притч и задач. СПб.: Тип.Н. А. Лебедева, 1876. 333 с.
- Суперанская А. В. Современный словарь личных имен: Сравнение, происхождение. Написание. М.: Айрис-пресс, 2005. 384 с.
- Шешунова С. В. Град Китеж в русской литературе: парадоксы и тенденции [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.vbrg.ru/articles/interesnoe_v_nauke_i_tekhnike/grad_kitezh_v_russkojj_literature_paradoksy_i_tendentsii/.