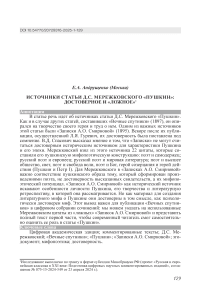Источники статьи Д. С. Мережковского «Пушкин»: достоверное и «ложное»
Автор: Андрущенко Е.А.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (72), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет об источниках статьи Д.С. Мережковского «Пушкин». Как и в случае других статей, составивших «Вечные спутники» (1897), он опирался на творчество своего героя и труд о нем. Одним из важных источников этой статьи были «Записки А.О. Смирновой» (1895). Вскоре после их публикации, осуществленной Л.Я. Гуревич, их достоверность была поставлена под сомнение. В.Д. Спасович высказал мнение о том, что «Записки» не могут считаться достоверным историческим источником для характеристики Пушкина и его эпохи. Мережковский взял из этого источника 22 цитаты, которые составили его пушкинскую мифопоэтическую конструкцию: поэт и самодержец; русский поэт и европеец; русский поэт и мировая литература; поэт и высшее общество, свет, поэт и свобода воли, поэт и Бог, герой созерцания и герой действия (Пушкин и Петр I). Для Мережковского в «Записках А.О. Смирновой» важно соответствие пушкинского образа тому, который сформирован произведениями поэта, не достоверность высказанных свидетельств, а их мифопоэтический потенциал. «Записки А.О. Смирновой» как исторический источник искажают особенности личности Пушкина, его творчества и литературную ретроспективу, в которой она рассматривается. Но как материал для создания литературного мифа о Пушкине они достоверны в том смысле, как психологически достоверен миф. Этот вывод важен для публикации «Вечных спутников» в цифровом собрании сочинений: мы можем указать на использованные Мережковским цитаты из «ложных» «Записок А.О. Смирновой» и представить полный текст первой части, чтобы современный читатель смог самостоятельно оценить
Цифровая академическая эдиция, комментированные тексты, д.с. мережковский, «вечные спутники», «пушкин», «записки а.о. смирновой», эгодокумент, мифопоэтика, достоверность
Короткий адрес: https://sciup.org/149147768
IDR: 149147768 | DOI: 10.54770/20729316-2025-1-129
Текст научной статьи Источники статьи Д. С. Мережковского «Пушкин»: достоверное и «ложное»
Digital academic publication; annotated texts; D.S. Merezhkovsky; “The Eternal Companions”; “Pushkin”; A.O. Smirnova’s “Notes”; egodocument; mythopoeia; authenticity.
Знаменитая книга Д.С. Мережковского «Вечные спутники» (1897), публиковавшаяся уже несколько раз, в 2016 г. издана в Собрании сочинений писателя в 20 томах [Мережковский 2016], выходящем в свет под эгидой ИМЛИ им. А.М. Горького РАН и ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Ее первая редакция, ставшая широко известной на рубеже веков [Мережковский 1897], и последняя, в которой книга вошла в Полное собрание сочинений писателя в 24 томах (1914) [Мережковский 1914], представляют равную ценность для исследователей литературы Серебряного века. Они свидетельствуют о начальном периоде становления символизма и о пересмотре состава значимых фигур прошлого в утверждении новых взглядов на русскую и мировую литературу в тот период, когда один из его основателей потерял к формированию «нового искусства» деятельный интерес. Это обстоятельство представляется существенным в связи с подготовкой первого цифрового издания «Вечных спутников», которое позволит дать читателю все редакции книги, включая первопечатные публикации статей, вошедших в ее состав, все подготовительные автографические материалы, прижизненные отклики современников, а также многочисленные источники, которыми пользовался автор. О достоверности и «ложности» одного из них, «Записок А.О. Смирновой», идет речь в нашей статье.
Первая редакция «Вечных спутников» состоит из тринадцати статей, вторая – из пятнадцати, причем этот состав сложился не вследствие механического добавления, а добавления и замены: из первой редакции изъята статья «Дафнис и Хлоя» (1895), которую заменила статья «Трагедия целомудрия и сладострастия» (1899); в «иностранную» часть книги добавлена статья «Гёте» (1913), а в «русскую» – статья «Тургенев» (1909). В обеих редакциях книге предпослано предисловие автора, обосновывающее ее замысел: «показать за книгой живую душу писателя – своеобразную, единственную, никогда более не повторявшуюся форму бытия; затем изобразить действие этой души – иногда отделенной от нас веками и народами, но более близкой, чем те, среди кого мы живем, – на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь критика, как представителя известного поколения. Именно в том и заключается величие великих, что время их не уничтожает, а обновляет: каждый новый век дает им как бы новое тело, новую душу, по образу и подобию своему» [Мережковский 2016, 7]. Первая статья «Акрополь» (1893) и последняя – «Пушкин» (1896) во всех изданиях находятся в «сильной» позиции начала и финала книги и свидетельствуют о движении мысли автора от «язычества» человечества к гармоничному соединению его с «христианством» в личности Пушкина.
Все статьи, кроме «Акрополя», написаны, как правило, на основе двух источников: текста, принадлежащего писателю (мыслителю), и текста о нем (мемуары, дневник, записки, письма, научный труд и пр.). Для статьи «Сервантес» (1889), например, использовался французский перевод «Дон Кихота», выполненный Л. Виардо [Viardot 1836], а в качестве труда о нем – вступительная статья переводчика к этому роману [Viardot 1836, 1–48]. Для статьи «Флобер» (1888) – произведения писателя и его переписка [Flaubert 1887; Lettres de Gustave Flaubert... 1884]. В пространстве между этими текстами находится точка зрения автора статьи, творящего миф о «спутнике» «в своем свете, в своем духе, под своим углом зрения» [Мережковский 2016, 8].
Завершающая «Вечные спутники» статья «Пушкин», уже становившаяся объектом изучения [Анненкова 1999, 59–61; Коптелова 2009, 74–84; Крылов 1998, 64–70; Минц 1987, 72–76; Полонский 2007, 65–69; Сарычев 2000, 84–87; Фризман 1991, 454–458 и др.], занимает в символистской пушкиниане значимое место. Один из ее источников – «Записки А.О. Смирновой», публиковавшиеся под заглавием «Записки А.О. Смирновой (неизданные исторические документы)» с февраля 1893 г. по сентябрь 1894 г. в журнале «Северный вестник», а затем вышедшие в свет в редакции «Северного вестника» отдельным изданием под названием «Записки А.О. Смирновой. (Из записных книжек. 1826– 1845 гг.)» (1895) [Записки… 1895], – вызвал резкий протест В.Д. Спасовича. Он выступил с лекцией, тезисы которой отложились в архиве П.И. Вейнберга (ОР ИРЛИ. Ф. 62. Оп. 3. № 444. Л. 62–63), и напечатал обширную рецензию, в которой утверждал, что Мережковский «написал портрет заведомо неверный, с полным смешением эпох Александровской и Николаевской, с подведением обеих эпох под один знаменатель и без всякого соображения с радикально изменившейся общественной обстановкою своего сюжета. Его этюд писан, так сказать, на китайский манер, без всякой перспективы» [Спасович 2007, 675]. Полемика о «Записках А.О. Смирновой», продолжающаяся столетие [Бартенев 1899, 146–158; Смирнова 1999, 78–101], свидетельствует о важности этого тек- ста для характеристики Пушкина и его эпохи [Житомирская 1979, 329–344]. Не менее значим он для понимания пушкинского мифа Мережковского, который осветил своеобразным светом как его исследование «Л. Толстой и Достоевский» (1900–1902), в сущности, выросшее из статьи «Пушкин», так и статью «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1909), книгу «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (1915) и др.
Разобрав несуразности и анахронизмы в «Записках А.О. Смирновой», Спа-сович пришел к выводу о том, что они «совсем не годятся для употребления в качестве исторического источника по многочисленности прибавок, несомненно поддельных, позднейшего происхождения и по невозможности определить, без тщательного исследования рукописей, что занесено А.О. Смирновою в ее записные книжки на свежую память, день за днем при жизни Пушкина, что было прибавлено ею с 1837 г. по год ее кончины, в 1882 г.; наконец, что присовокуплено к ее запискам дочерью Смирновой, Ольгою Николаевною» [Спа-сович 2007, 675]. Созданный на основе этой книги портрет Пушкина, полагал автор рецензии, «не только неправдив, но даже и гораздо менее красив, нежели настоящий, у которого по временам от нестерпимой боли искажались черты лица. В нестрадающем Пушкине Мережковского пропадает весь трагизм положения великого поэта, который нам по этим страданиям становится особенно дорог» [Спасович 2007, 674]. Спасович поставил под сомнение достоверность «Записок А.О. Смирновой» как исторического источника и не принял во внимание его характерные особенности как эгодокумента – субъективность и фрагментарность. Мнения современников о «ложном» и достоверном в этой книге разошлись [Смирнова 1999, 78–101], однако возражения все же касались важнейших фрагментов статьи Мережковского, которые во многом обусловили ее концепцию, и требуют комментария.
Из «Записок А.О. Смирновой» в статью «Пушкин» включены 22 цитаты; отдаленное сходство с выверенным текстом, изданным в наши дни С.В. Житомирской [Смирнова-Россет 1989], имеют только две из них. В общем виде весь почерпнутый из источника цитатный материал может быть классифицирован по темам: Пушкин и царь (поэт и самодержец); Пушкин и французский посол (русский поэт и европеец); Пушкин, его великие современники и предшественники (русский поэт и мировая литература); Пушкин и жена (поэт и высшее общество, свет); Пушкин и смерть (поэт и свобода воли); Пушкин и религия (поэт и Бог); Пушкин и Петр I (герой созерцания и герой действия). Если рассмотреть только цитаты из текста «Записок А.О. Смирновой» в редакции 1895 г. в их совокупности, то обнажается каркас, на котором зиждется мифопоэтическая конструкция статьи «Пушкин». Ее неотъемлемыми элементами является анализ произведений Пушкина, подкрепленный или обусловленный выдержками из свидетельств современницы, и комментарии к ним автора, обобщающего впечатления от того и от другого и утверждающего свои выводы. Характерной особенностью подобного анализа является отождествление автора и его лирического героя, схематизация облика поэта, освобождение его от деталей, не укладывающихся в концепцию.
Опережая упреки современников, которые могли усомниться в достоверности «Записок» уже при их первой публикации в «Северном вестнике», Мережковский писал: «Историческое значение этой книги заключается в том, что воспроизводимый ею образ Пушкина-мыслителя как нельзя более соответствует образу, который таится в необъясненной глубине законченных созданий поэта и отрывков, намеков, заметок, писем, дневников. Для внимательного исследователя неразрывная связь и даже совпадение этих двух образов есть неопровержимое доказательство истинности пушкинского духа в Записках Смирновой, каковы бы ни были их внешние промахи и неточности. Пушкин и здесь, и там – и в своих произведениях, и у Смирновой, – один человек, не только в главных чертах, но и в мелких подробностях, в неуловимых оттенках личности. Нередко Пушкин у Смирновой объясняет мысль, на которую намекал в недоконченной заметке своих дневников, и наоборот – мысль, которая брошена мимоходом в беседе со Смирновой, становится ясной только в связи с некоторыми рукописными набросками и заметками» [Мережковский 2016, 237]. Обратим внимание, что для Мережковского важен в «Записках» именно «пушкинский дух» и соответствие его образа тому, который сформирован его произведениями, т.е. не достоверность высказанных свидетельств, а их мифопоэтический потенциал.
Здесь и коренится, на наш взгляд, ответ на вопрос о «ложном» и достоверном в статье Мережковского и об обоснованности претензий Спасовича. Если судить о «Записках А.О. Смирновой» как об историческом источнике, то опора на этот текст в суждениях о Пушкине приводит к выводам, схематизирующим особенности его личности, уплощающим смысл его произведений и искажающим литературную ретроспективу. Но если видеть в них элемент для создания литературного мифа о Пушкине, а в статье Мережковского – один из символистских текстов, в котором имя Пушкина включается в со- и противопоставления целому ряду имен и культурных констант, то образ, созданный автором статьи, достоверен, но в ином смысле – так, как психологически достоверен миф.
В литературном мифе Мережковского Пушкин, «подобно Гёте, рассуждающий о мировой поэзии, о философии, о религии, о судьбах России, о прошлом и будущем человечества» [Мережковский 2016, 237], оказывается равновелик Шекспиру и Данте, спорит с Байроном и Мицкевичем, высказывает свободолюбивые инвективы и бросает вызов злу, словом, становится тем самым синтетическим культурным явлением, которого, по словам Мережковского, еще только ждет русская культура. «…Книга Смирновой, – писал он, – имеет свое будущее: в беседах с лучшими людьми века Пушкин недаром бросает семена неосуществленной русской культуры. Когда наступит не академический и не лицемерный возврат к Пушкину, когда у нас явится наконец критика, то есть культурное самосознание народа, соответствующее величию нашей поэзии, – Записки Смирновой будут оценены и поняты, как живые заветы величайшего из русских людей будущему русскому просвещению» [Мережковский 2016, 237]. Следует признать, что именно академический интерес к Пушкину позволил установить подлинный текст «Записок А.О. Смирновой», подвергнуть критическому рассмотрению редакцию 1895 г. и найти ее место в науке о Пушкине и о самом Мережковском. При публикации «Вечных спутников» в цифровом собрании произведений у нас появляется возможность не только сослаться на использованные Мережковским цитаты из «ложных» «Записок А.О. Смирновой», но и представить полный текст первой части, чтобы современный читатель смог самостоятельно оценить ее роль в статье «Пушкин».