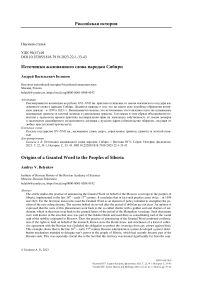Источники жалованного слова народам Сибири
Автор: Беляков А.В.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.22, 2023 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается возникшая на рубеже XVI-XVII вв. практика оглашения от имени московского государя жалованного слова к народам Сибири. Делаются выводы о том, что на самом деле подобные обращения возникали дважды - в 1599 и 1623 гг. Высказывается мнение, что источниками этого явления стали так называемые жалованные грамоты за золотой печатью и укрепленные грамоты. Тем самым в этом обряде объединяются известная с ордынских времен практика подтверждения прав на земельную собственность от имени монарха и заключение своеобразного коллективного договора с русским царем (обязательство оберегать государя от любых преступлений против него).
Русское государство xv-xvii вв, жалованное слово, шерть, укрепленные грамоты, грамота за золотой печатью
Короткий адрес: https://sciup.org/147239036
IDR: 147239036 | УДК: 94(47).04 | DOI: 10.25205/1818-7919-2023-22-1-33-43
Текст научной статьи Источники жалованного слова народам Сибири
Belyakov A. V. Origins of a Granted Word to the Peoples of Siberia. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2023, vol. 22, no. 1: History, pp. 33–43. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2023-22-1-33-43
В последнее время проводится большая работа по исследованию процесса инкорпорации народов Сибири в состав подданных московского государя [Конев, 2005; Трепавлов, 2007; Акишин, 2013; Моисеев, 2014; Слугина, 2017; Зуев и др., 2017]. В частности происходит изучение так называемого жалованного слова, ретранслируемого народам Сибири от имени русского царя через воевод. Здесь следует отметить статью А. Ю. Конева и В. А. Слугиной, в которой авторы предприняли попытку анализа трансформации формуляра слова. Ими были выявлены устойчивые крупные смысловые блоки в содержании этих документов:
-
1) признание факта злоупотреблений со стороны воевод и служилых людей по отношению к коренным народам Сибири;
-
2) обещание защиты от подобных необоснованных притеснений со стороны служилых людей и ясачных сборщиков;
-
3) гарантии сохранения за сибирскими иноземцами права проживания на своих землях и занятия традиционными промыслами в обмен на обязательства перед русским царем всячески предотвращать измены и заговоры (сообщать об известных им фактах и задерживать причастных к этому лиц).
Исследователи заявили, что текст слова восходит к более ранним царским «пожалованиям», содержащим меры поощрения и льготирования [Слугина, Конев, 2020]. Но установить, источники жалованного слова им не удалось. Причина такой неудачи кроется в искусственном ограничении исследователей только сибирским материалом. Обращение к более ранним общегосударственным практикам позволяет выявить формы делопроизводства, ставшие образцом и источником для жалованного слова. Наиболее отчетливо элементы слова прослеживаются в текстах так называемых грамот за золотой печатью и укрепленных (крепких) грамот. Рассмотрим их подробнее.
Грамоты за золотой печатью документально фиксируются с 1-й трети XVI в. Хотя, по косвенным данным, они могли появиться и несколько раньше, как минимум в конце XV в. Их полные тексты (Под стягом России, 1992, c. 6; Акты, 2002, № 479) [Миллер, 2005, c. 324– 325] 1, цитаты из них 2 или же упоминания об этой группе документов, подчас косвенные (Сборник, 1887, c. 479–480; ПСРЛ, 1965, с. 62; Белокуров, 1889, с. 8–9, 62; БШ, 1960, с. 33, 73, 79, 117, 127, 150; БИПЛ, 2015, с. 141–143, 177–178) [Орленко, Мельник, 2019], встречаются до XVII в. Позднее данная практика перекочевала в дипломатический обиход и сохранялась вплоть до XVIII в. Круг государств и территориально-национальных образований, к которым посылались такие грамоты, был широк: Сибирское княжество и царство, югорские княжества, башкирские земли, чуваши, марийцы, Кабарда, Грузия (Кахетия), окотские (ахоц-кие) княжество и шамхальство Северного Кавказа (Под стягом России, 1992, c. 6; Акты, 2002, № 479; Белокуров, 1889, c. 62–66, 364–365; ПСРЛ, 1965, c. 62) [Миллер, 2005, c. 324– 325]. Подобный документ в конце XVI в. неудачно пытались навязать казахскому хану Та-ваккулу 3, а в начале XVII в. – калмыцким тайшам (РМО, 1959, № 1–2, с. 22–23) 4. По- видимому, жалованную грамоту обманом удалось вручить Алтын-хану 5. Интересен тот факт, что все перечисленные народы и страны в той или иной степени ощутили на себе ордынское влияние.
Полный формуляр жалованных грамот неизвестен. Он устанавливается только при сличении сохранившихся подобных документов и их косвенных упоминаний. В идеале грамота должна была иметь следующие элементы: 1) инвокация; 2) интитуляция (большой титул); 3) инскрипция; 4) сообщение о прибытии посольства от адресата к московскому государю с прошением жалованной грамоты за золотой печатью – «всю землю… держати в своем царском жалованье под своею царскою рукою и в обороне от всяких ваших недругов… и грамота бы нам своя царская жалованная с золотою печатью дати вам»; 5) сообщение о том, что землю «взяли в свое царское жалованье под свою царскую руку… и хотим вас держати… в службе и обороне»; 6) делегирование адресату обязанности приводить под царскую руку всех сродников и представителей соседних народов; 7) констатация обязательной военной службы московскому государю – «посылати к нам на нашу службу на наших недругов братью свою и детей и племянников с ратными людьми»; 8) требование быть «неотступным» от великокняжеского (царского) жалования; 9) обещание выплаты регулярной дани (в некоторых случаях ясака); 10) сведения об удостоверении – «Дана сия наша царская жалованная грамота, и золотую печать велели к сей грамоте привесити…». Печать на самом деле могла быть как золотой, так и серебряной, вызолоченной на шелковом шнуре. Наиболее полно формуляр подобных документов отображен в грамоте к черкесским (кабардинским) князьям 1589 г. Ее структура и взята нами для примера. Однако даже в ней отсутствует пункт об обязательной выплате дани (Акты, 2002, № 479). В других грамотах может быть пропущен целый ряд пунктов. Одни из самых лаконичных посылались на Югру. В грамоте князю Певгею 1557/58 г. вслед за интитуляцией (не полный титул) и инскрипцией дается сообщение о посылке «во Юсерскую землю» царских данщиков. Местному князю или же его брату или племяннику вместе с ними собранную дань требовалось привезти в Москву. В конце поместили припись о том, что «а ся наша грамота жалованная и опасная». Но при этом у документа фиксируется ее главный элемент: «У подлинные великого государя грамоты печать на шелковом мутовозе серебренная, вызолочена; а на ней печать великого государя Ивана Васильевича в лице орел двоеглавый, а позади той печати чеканено: великий царь и великий князь Иван Васильевич» [Миллер, 2005, с. 324–325].
В этом документе нет упоминания о добровольной передаче земли московскому государю и ответном пожаловании ею же князя Певгея, но это подразумевается. Более того, возникает ощущение, что для некоторых народов важно было не то, что написано в тексте грамоты, а правильное ее оформление – наличие вислой золотой печати. В постордынском мире удалось найти только одну явную параллель с подобным оформлением документов. Московские государи и крымские ханы на протяжении XVI–XVII вв. с определенной регулярностью обменивались шертными / крестоцеловальными грамотами. На них в обязательном порядке помещались вислые золотые печати. Более того, в русской документации подобные хрисову-лы назывались байсой (Сборник, 1884, с. 32) [Колодзейчик, 2015] 6. Прямой аналогии в ордынской канцелярии не прослеживается. Однако известно, что хан давал своим наместникам, назначенным управлять тем или иным регионом, свой ярлык байсу (пайцзу) [Абзалов, 2011, c. 60, 63–64, 191–192]. Остается понять, как эти два предмета в итоге объединились в грамоту с вислой золотой печатью. Возникающие отношения также подтверждались шертованием. Последнее могло осуществляться как в письменной форме [Беляков, 2020], так и без документального заверения, путем проведения неких обрядов [Плигузов, 1993, c. 148–150].
В. В. Трепавлов отмечает, что на постордынском пространстве (рассматриваются сюжеты на башкирах и сибирских материалах) еще в XVI в. существовало представление о том, что легитимность земельного владения обеспечивалась только пожалованием от монарха [Тре-павлов, 2018, c. 182–186]. По-видимому, жалованные грамоты за золотой печатью для получаемой стороны и выступали свидетельствами такого пожалования. Ранее их выдавали ордынские ханы, позднее эта функция отошла ханам Астраханского, Казанского и Крымского ханств. При этом получение подобных документов, скажем, правителями Сибири из канцелярии казанских ханов не рассматривалось как потеря первыми своей независимости. Логично предположить, что с завоеванием Казани и Астрахани эта функция перешла к Москве. Но югорские документы позволяют утверждать, что русские государи выдавали подобные документы уже в 1530-х гг., а возможно, и ранее. Русская сторона совсем по-другому воспринимала получение правителями тех или иных народов подобных документов. Для нее это было безусловное вступление в подданство к московскому государю.
Сибирские документы дают возможность установить, когда на жалованных грамотах золотые печати начинают заменять красновосковыми. Хрисовулы или же вызолоченные арги-ровулы полагались тем народам и правителям, которые официально заявили о вассальных отношениях по отношению к московскому государю (готовы были получить правильно оформленную грамоту), однако на практике контроль над ними был проблематичен. С усилением русской власти в регионе грамоты начинали скреплять красновосковыми печатями на красном шелковом шнуре. Именно такую грамоту в 1586 г. получил ляпинский князь Лугуй. При этом на первый взгляд она разительно отличается от рассматриваемых нами документов. На самом деле это не совсем так. Ее текст, как и текст грамоты к князю Певгею, содержит упоминание о размерах дани и месте, куда ее следовало привезти, а также защищает от русских воинских людей его городки (СГГД, 1819, № 54, с. 88–89). Лаконичность объединяет эти два документа. Вот только печать стала иной. Но, похоже, в новых условиях данное изменение вполне устраивало югорского князя.
Возможно, отсылку к ордынской практике имеет и само название явления – жалованное слово. «Слово мое», «слово наше» – это формы обращения, регулярно встречающиеся в переводе интитуляции в жалованных актах (ярлыках) правителей на территории бывшего Джу-чиева улуса и активно заимствованные в московской великокняжеской, а затем и царской канцелярии («Васильево слово», «Иваново слово») [Усманов, 1979, c. 186–205]. В научной литературе можно даже встретить такую форму перевода как «мое жалованное слово [таково]» [Мустакимов, 2010]. В доордынский период на Руси автору такое обращение неизвестно.
Однако не в одних только жалованных грамотах за золотой печатью следует видеть предшественников жалованного слова. В слове регулярно отмечается требование: «И над воры воровства и шатости и всякого лихова умышления смотрили и берегли накрепко… А в которых людех будет почают шатости и воровства, и они б воров не укрывали и не таили, тем государю службу свою и правду объявили, и тех людей, в которых почают шатость и воровства, сказывали про них и, имая, приводили к ним, к воеводе». Оно отправляет нас к так называемым укрепленным грамотам. Укрепленные (крепкие) грамоты сохранились более чем за столетие, с 1474 по 1581/82 г. (СГГД, 1813, № 103, 146, 149, 152–154, 159, 162, 165, 172, 177, 182, 189, 196, 201). Также известен ранний типовой формуляр подобных документов, отложившийся в сборнике грамот канцелярии митрополита (РФА, 1986, № 46, с. 175). Отличительной особенностью этой группы документов является устойчивое деление их протокола на части: 1) констатация прощения государем по ходатайству высших церковных иерархов вины («…пожаловал, нелюбье свое мне отдал», «…вины мне отдал»); 2) обещание пожизненной службы сюзерену и его детям. При этом служба подразумевала два обязательных пункта: не отъезжать от великого князя (царя); сообщать о любых лихоимцах, замысливших недоброе против великого князя (царя). По мнению И. Г. Пономаревой, укрепленные (крепкие) грамоты появились как реакция на непростую ситуацию феодальной войны в русских землях середины XV в. между Василием II Темным и Дмитрием Шемякой. Тогда потребовалось получение письменных гарантий верности от удельных князей и изме- нивших великому князю бояр. Первый подобную грамоту вынужден был дать временно проигравший Василий II Темный одержавшему над ним победу Дмитрию Юрьевичу Шемяке [Пономарева, 2016].
Обратим внимание на то, что в случае с рассматриваемыми нами жалованными грамотами статус ряда адресатов близок к русским удельным князьям. Но жалованные грамоты нельзя рассматривать как прямой аналог укрепленных. Таковыми по отношению к неправославным лицам должны были выступать шерти и роты. При этом в развернутых жалованных грамотах текст шертей и рот некрещеных татарских царей и царевичей повторялся местами почти дословно (СГГД, 1819, № 26, 27, с. 30–34).
Всё тот же исследователь, рассматривая вассальную присягу, предполагает, что изначально она могла не даваться письменно, а представляла собой некое публичное действие. При этом делается попытка восстановить изначальный текст подобной присяги [Пономарева, 2015; 2019]. Возвращаясь к нашей теме, отметим, что на рассматриваемых территориях зачастую устной процедуры было недостаточно. Требовалось некое действо, ее подтверждающее. Возможно, данный факт послужил дополнительным стимулом к сочинению текста жалованного слова и неких процедур его провозглашения, обставленных почти как дипломатическая церемония (обязательное цветное платье у присутствующих с русской стороны, наличие вооруженных представителей гарнизона, непременное угощение после этого от имени государя). Возможно, сам факт прихода представителей коренного населения в город и участие в этой церемонии рассматривалось как подтверждение ранее дававшейся шерти. Нельзя не указать и на тот факт, что появление жалованного слова по времени (1599 г) совпадает с моментом установления общегосударственной присяги государю (1598 г.). По содержанию тексты присяги и жалованного слова также очень близки [Королева, 2020]. Возможно, изначально эти две процедуры для Сибири считались взаимозаменяемыми.
Укажем еще на один момент. Рассматривая государево «слово и дело» как особый вид преступлений, Н. Я. Новомберский сделал абсолютно справедливое наблюдение о том, что «“слово и дело” государево как особая изветная формула возникла на почве публично-правового обязательства населения оберегать государя и его семью от злых умыслов» [Но-вомбергский, 1919, c. 2–3]. Мы видим, что в жалованных и укрепленных грамотах этот пункт приводится в обязательном порядке. При этом пункт об оберегании государя был перенесен на всё государство. Таким образом, это в своем роде один из государствообразующих факторов, способствовавший возникновению и становлению Московского государства, в определенном смысле личный или же коллективный договор подданных с государем.
Также следует остановиться на времени и причинах появления жалованного слова. Данной проблематикой в последнее время занимаются А. Ю. Конев и В. А. Слугина. Исследователи пришли к выводу о том, что жалованное слово «появилось не вдруг, а наследовало соответствующим практикам XVI в.» [Конев, Слугина, 2022]. С этим выводом следует согласиться только отчасти. Действительно, жалованное слово стало прямым наследником более ранних шертных и жалованных грамот. Однако наряду с этим данная форма репрезентации царской власти за Уралом появилась благодаря целому ряду причин повлекших многократную смену правящих династий на российском троне на протяжении лишь одного поколения. Еще Е. В. Вершинин отметил, что жалованное слово появилось в сибирских наказах с назначением первых воевод в правление Бориса Годунова. Он связал возникновение слова со сложением с сибирского ясачного населения ясака на 1599/1600 г. [Вершинин, 1998, c. 67–68]. Действительно, до 1599 г. жалованное слово как набор определенных действий и фраз в наказах не упоминается, хотя такое словосочетание известно и в более ранних документах. Однако его появление ни в коей мере не было связано с отменой ясака на год в связи со вступлением на престол новой династии. Наказ сургутскому воеводе с первым упоминанием клаузулы жалованного слова датирован 18 апреля 1599 г. 7, а указ об отмене в честь восхож- дения на российский трон Бориса Годунова со всех сибирских людей ясачных сборов на 1599/1600 г. датирован 25 июня 1599 г. Однако именно в этом указе впервые приводится описание того, как должна проводиться церемония провозглашения слова: приглашение людей из уезда, присутствие воеводы и служилых людей на церемонии в цветном платье, обязательное угощение сибирских людей от имени государя 8. По-видимому, эти изменения в заочном общении московского государя с его сибирскими подданными были задуманы специально для подъема престижа новой династии.
С этого момента жалованное слово упоминается постоянно. Возможно, постепенно от этой формы могли отказаться. Но регулярная смена власти подталкивала приказную мысль каждый раз вспоминать о жалованном слове. Заимствовался этот элемент Лжедмитрием I 9, Василием Шуйским 10, Михаилом Романовым. Это было абсолютно логично. Власть всегда стремилась подчеркнуть свою преемственность. Но при Михаиле от него в какой-то момент почти отказались. В первые годы правления этого монарха формула слова в наказных грамотах комкается и постепенно сокращается. В сургутской грамоте 1614 г. остается только требование присутствия на церемонии воеводы и служилых людей в цветном платье. А само жалованное слово состояло только из двух пунктов – разрешение самим ясачным остякам привозить ясак в город и требование не таить захребетников 11. В 1620 г. опять же встречаются два эти пункта, но сформулированные уже иначе 12. В полном объеме жалованное слово возрождается только в 1623 г. 13 Та же динамика наблюдается и в наказных грамотах тарским воеводам. Здесь можно указать на одну особенность. Наказная грамота 1599 г. датирована 7 августа. Она была написана уже после указа об отмене ясака, поэтому жалованное слово в наказе новым воеводам 1599 г. дается в полном объеме 14. Таким образом, говорить об окончательном утверждении жалованного слова в Сибири можно не ранее чем с 1623 г. Это необходимо учитывать при дальнейшем изучении данного явления. Причины временного отказа от жалованного слова (по крайней мере в полном объеме его формулы) в первые годы правления Михаила Романова в настоящий момент не ясны. Логично предположить, что это могло быть связано с изменениями в составе лиц, управлявших приказом Казанского дворца, который в то время ведал Сибирью. Но в этот период никаких кардинальных изменений в составе судей этого учреждения не фиксируется. Единственным исключением является перевод в приказ в феврале 1621 г. дьяка И. И. Болотникова [Лисейцев и др., 2015, с. 76]. Также следует учитывать и тот факт, что в Москве могли в какой-то момент посчитать, что Сибирь прошла переходный период и теперь готова к дальнейшей унификации управления с основными территориями государства. К такому шагу мог подтолкнуть и тот факт, что жалованное слово появилось и использовалось при династиях, легитимность которых Романовы ставили под сомнение. Однако дальнейшее развитие событий заставило отказаться от подобных идей. Здесь необходимы дальнейшие исследования.
На рубеже XVI–XVII вв. в недрах приказного аппарата проходила разработка форм заочной презентации царской власти народам Сибири, недавно вошедшим в состав Русского государства. Это было важно уже потому, что данная территория была значительно удалена от столицы. Для поддержания единства государства требовались в том числе и некоторые элементы создающие иллюзию непосредственного вовлечения московского государя в процессы управления землями, расположенными за Уралом. Создание и эволюцию формуляра жалованного слова следует рассматривать как один из элементов этого процесса. Слово не могло возникнуть без опоры на предыдущий опыт государственного строительства, поэтому в его структуре отчетливо просматриваются элементы более ранних документов. Одними из них являются жалованные грамоты за золотой печатью и укрепленные (крепкие) грамоты. Отказ от искусственного сужения темы исключительно сибирскими сюжетами, возможно, позволит сделать и другие наблюдения в истории возникновения и бытования жалованного слова.
Список литературы Источники жалованного слова народам Сибири
- Абзалов Л. Ф. Ханские писцы. Из истории становления и развития канцелярской службы ханов Золотой Орды / Л. Ф. Абзалов. - Казань: Изд-во «ЯЗ», 2011. - 252 с.
- Акишин М. О. Шертование народов Сибири при присоединении к России / М. О. Акишин // Вестник НГУ. Серия: История, филология. - 2013. - Т. 12, № 5. - С. 233-241.
- Беляков А. В. Сибирские шерти XVI в. / А. В. Беляков // Вестник НГУ. Серия: История, филология. - 2020. - Т. 19, № 1. - С. 125-131. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2020-19-1-125-131
- Вершинин Е. В. Воеводское управление в Сибири (XVII век) / Е. В. Вершинин. - Екатеринбург: Муниципальный учеб.-метод. центр «Развивающее образование», 1998. - 204 с.
- Зуев А. С. Под сень двуглавого орла: инкорпорация народов Сибири в Российское государство в конце XVI - начале XVIII в. / А. С. Зуев, П. С. Игнаткин, В. А. Слугина. -Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2017. - 444 с.
- Колодзейчик Д. Попытка восстановления монгольской традиции в Крымском ханстве начала XVII в.: байса, тат ве тавчаг / Д. Колодзейчик // Золотоордынское обозрение. - 2015. - № 3. - С. 91-101.
- Конев А. Ю. Шертоприводные записи и присяги сибирских «иноземцев» конца XVI - XVIII в. / А. Ю. Конев // Вестник археологии, антропологии и этнографии. - 2005. - № 6. - С. 172-177.
- Конев А. Ю. «Сказать государево жалование…»: практики обращения монарха к населению Сибири в конце XVI - XVII веках / А. Ю. Конев, В. А. Слугина // Вестник НГУ. Серия: История, филология. - 2022. - Т. 21, № 1. - С. 37-48. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-1-37-48
- Королева М. В. Процедура государственной присяги в России XVII в./ М. В. Королева // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - 2020. - № 4. - С. 73-82.
- Лисейцев Д. В. Приказы Московского государства XVI-XVII вв.: Словарь-справочник / Д. В. Лисейцев, Н. М. Рогожин, Ю. М. Эскин. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. - 303 с.
- Миллер Г. Ф. История Сибири / Г. Ф. Миллер. - М.: Вост. лит., 2005. - Т. 1. - 630 с.
- Моисеев М. В. Шертные грамоты в контексте русско-ногайских отношений в XVI веке / М. В. Моисеев // Средневековые тюрко-татарские государства. - Казань, 2014. - Вып. 6. - С. 84-90.
- Мустакимов И. А. Некоторые замечания к чтению и интерпретации ярлыка хана Ибрагима / И. А. Мустакимов // Актуальные проблемы истории и культуры татарского народа. - Казань, 2010. - С. 155-180.
- Новомбергский Н. Я. «Слово и Дело» / Н. Я. Новомбергский // Изв. Том. ун-та. - 1919. - Кн. 68. - С. 1-177.
- Орленко С. П. Ремесленники придворных мастерских XVII века «у дела государевых печатей» (К юбилею Большой государственной печати 1667 г.) / С. П. Орленко, К. Г. Мельник // Московский Кремль XVII столетия. Древние святыни и исторические памятники. - М., 2019. - Кн. 1. - С. 114-125.
- Плигузов А. И. Текст-кентавр о сибирских самоедах / А. И. Плигузов. - М.; Ньютонвиль: Археографический центр, 1993. - 160 с.
- Пономарева И. Г. Обряд вассальной присяги в Древней Руси / И. Г. Пономарева // Studia Historica Europae Orientalis. Исследования по истории Восточной Европы. - Минск, 2015. - Вып. 8. - С. 63-76.
- Пономарева И. Г. О происхождении московских «укрепленных» грамот / И. Г. Пономарева // Археографический ежегодник за 2012 год. - М., 2016. - С. 64-75.
- Пономарева И. Г. К реконструкции текста древнерусской вассальной присяги / И. Г. Пономарева // Русь, Россия: Средневековье и Новое время. - М., 2019. - Вып. 6. - С. 69-72.
- Слугина В. А. Правовое оформление российского подданства сибирских народов в XVI-XVII вв.: шертовальные записи и процедура шертования: Дис. … канд. ист. наук. / В. А.Слугина. - Новосибирск, 2017. - 200 c.
- Слугина В. А. «Жалованное слово» в наказах сибирским воеводам: к вопросу о происхождении и эволюции формуляра / В. А. Слугина, А. Ю. Конев // Актуальные проблемы отечественной истории, источниковедения и археографии: к 90-летию Н. Н. Покровского. - Новосибирск, 2020. - С. 183-193.
- Трепавлов В. В. «Белый царь»: образ монарха и представления о подданстве у народов России XV-XVIII вв. / В. В. Тренпавлов. - М.: Вост. лит., 2007. - 255 с.
- Трепавлов В. В. Символы и ритуалы в этнической политике России XVI-XIX вв. / В. В. Трепавлов. - СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2018. - 320 с.
- Усманов М. А. Жалованные акты Джучиева улуса XIV-XVI вв. / М. А. Усманов. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1979. - 318 с.
- Акты - Акты служилых землевладельцев XV - начала XVII века. - М.: Древлехранилище, 2002. - Т. 3. - 680 c.
- БИПЛ - Башкирские исторические предания и легенды. - Уфа: Китап, 2015. - 526 с.
- БШ - Башкирские шежере. - Уфа: Башкнигоиздат, 1960. - 304 с.
- Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского Главного Архива Министерства Иностранных Дел. - Выпуск 1-й. 1578-1613 гг. / С. А. Белокуров. - М.: Университетская типография, 1889. - 715 с.
- Опись - Опись царской казны на Казенном дворе 1640 года. - М.: ГИКМЗ «Московский Кремль», 2014. - 192 с.
- Под стягом России: Сборник архивных документов. - М.: Русская книга, 1992. - 431 с.
- ПСРЛ - Полное собрание русских летописей. - М.: Наука, 1965. - Т. 29. - 389 с.
- РМО - Русско-Монгольские отношения 1607-1636 гг. - М.: Вост. лит., 1959. - 352 с.
- РФА - Русский феодальный архив XIV - первой трети XVI века. - М.: Ин-т истории СССР, 1986. - 220 c.
- Сборник - Сборник Русского исторического общества. - СПб.: Тип. О. Елеонского и Ко, 1884. - Т. 41. - 638 с.
- Сборник - Сборник Русского исторического общества. - СПб.: Тип. Ф. Елеонского и Ко, 1887. - Т. 59. - 708 с.
- СГГД - Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. - М.: Тип. Н. С. Всеволожского, 1813. - Ч. 1. - 533 с.
- СГГД - Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. - М.: Тип. Селивановского, 1819. - Ч. 2. - 399 с.