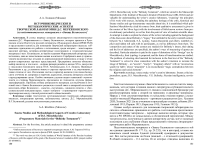Источниковедческие и методологические аспекты творческой лаборатории Д.С. Мережковского (из подготовительных материалов к «Завету Белинского»)
Автор: Холиков Алексей Александрович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые детально анализируются подготовительные выписки Д.С. Мережковского к «Завету Белинского», которые хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) (ИРЛИ РАН) и представляют ценность для понимания творческой лаборатории писателя, «обнажения» принципов его работы с источниками, среди которых - эпистолярное наследие критика, историко-литературные исследования и эгодокументальные материалы о нем. Установлено, по каким изданиям Мережковский цитировал свои источники, дана их качественная оценка в контексте Серебряного века (с привлечением малоизвестных отзывов из дореволюционной периодики), а также с точки зрения современных научных представлений. Предпринята попытка объяснить выбор писателя, в том числе - на фоне развернувшейся в начале ХХ в. дискуссии о «наследии» Белинского между Ю.И. Айхенвальдом, Е.А. Ляцким, Ивановым-Разумником и др.; установить явные и скрытые переклички с ее участниками, а также отличие от них. Исследован состав и характер выписок (для писем Белинского уточнена их датировка и перечень адресатов), описаны авторские способы структурирования цитат. Особое внимание уделено видам искажений «чужого» текста со стороны Мережковского, предложена их типология, изучены формы трансформации. Проблема отбора цитируемого материала для включения в итоговый текст «Завета Белинского» решается в тесной связи с авторской интенцией воссоздать образ Белинского - «аскета», «мученика», «мнимого атеиста» с «бессознательными поисками веры», «завет» которого - в примирении «трагического противоречия между стихией религиозной и общественной».
Текстология, источниковедение, творческая лаборатория писателя, литературная критика, публицистика, цитата, д.с. мережковский, в.г. белинский, русская интеллигенция, революция
Короткий адрес: https://sciup.org/149139973
IDR: 149139973
Текст научной статьи Источниковедческие и методологические аспекты творческой лаборатории Д.С. Мережковского (из подготовительных материалов к «Завету Белинского»)
Текстологическое изучение «Завета Белинского» нельзя считать завершенным, хотя история создания данного литературно-публицистического выступления Д.С. Мережковского от лекции к одноименной брошюре уже реконструирована нами с опорой на периодику и архивные материалы. Наряду с этим систематизированы и осмыслены отклики первых слушателей и читателей Мережковского - критиков и рецензентов [см.: Холиков 2020; Холиков 2021 ] (к не учтенным в прошлый раз отзывам добавим: [Полонский 1915; Перцов 1915; Кириллов 1915; Голиков 1915]).
Однако особую ценность для понимания творческой лаборатории писателя и «обнажения» принципов его работы с источниками представляют подготовительные материалы - черновые выписки автора, которые хранятся в РО ИРЛИ и не осмыслялись в обозначенной перспективе. Между тем результаты, полученные в данном конкретном случае, могут оказаться полезными для углубления общих представлений о генезисе литературнокритических работ Мережковского.
Подготовительные материалы к «Завету Белинского» находятся в той же единице хранения (Ф. 177. Ед. хр. 24.232), что и автограф, а также машинопись самой лекции. Единой (сплошной) нумерации в документах нет. Все листы разделены на блоки (каждый - с отдельной нумерацией). В общей сложности -114 листов, 26 из которых отведены выпискам из

различных источников, выполненным черными чернилами. Архивная пагинация не соответствует реальной последовательности выписок. Поверх них цветными карандашами писатель расставил цифры (красным - римские, синим - арабские). Некоторые листы (7, 21, 23, 26) остались пустыми (чистыми). Если сравнивать выписки к «Завету Белинского» с другими аналогичными материалами Мережковского из числа опубликованных, то структурно они ближе всего к выпискам для статьи «Гете» [Мережковский 2007, 339-347]. В архиве писателя сохранились и другие примеры, вскрывающие типовую схему его черновой работы. По крайней мере, при создании литературно-критических портретов или «силуэтов» в 1910-е гг. См., например, подготовительные материалы к текстам «Байрон», «Поденщик Христов» (о Л.Н. Толстом), «Поэт вечной женственности» (об И.С. Тургеневе), «Распятый народ» (об А. Мицкевиче), «Св. Елена» (о Наполеоне), «Тайна Тютчева» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.220; 24.246; 24.247; 24.249; 24.253; 24.258 - соответственно].
***
Среди привлеченных Мережковским источников «Завета Белинского» главным, безусловно, стали письма критика. Автор не делает из этого секрета и в основном тексте: «...вышли в свет письма его (I - III т.т. 1829 1848. Редакция и примечания Е.А. Ляцкого. СПБ. 1914)» [Мережковский 1915, 8]. Роль эгодокументов (писем, дневников, записных книжек, воспоминаний) в творческой лаборатории Мережковского основополагающая. Нам уже приходилось писать о стремлении писателя к документальности или ее имитации, которое реализуется во многом благодаря обращению к «интимным» жанрам [Холиков 2014, 265].
Что касается эпистолярного наследия Белинского, то Мережковский ранее апеллировал к его знаменитому письму в адрес Н.В. Гоголя от 15 июля 1847 г. в работах «Грядущий Хам», «Теперь или никогда», «Гоголь. Творчество, жизнь и религия». Здесь мы не можем утверждать, с какими публикациями этого некогда запрещенного текста Мережковский знакомился (их было несколько, причем разного качества; детальный обзор см.: [Письмо Белинского к Гоголю 1950, 513-605]), но в том же исследовании о Гоголе еще одно письмо к нему от Белинского (20 апреля 1842 г.) Мережковский цитирует по «Материалам для Биографии Гоголя» В.И. Шен-рока (Т. 4. М., 1897). Небольшая отсылка к этому эпистолярному тексту встречается также в работе «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». Очевидно, из вторых рук Мережковский использует письма Белинского к В.П. Боткину (благодарю Е.А. Андрущенко за сделанное уточнение): послание от 28 февраля 1847 г. неточно цитируется по труду Н.П. Барсукова «Жизнь и труды М.П. Погодина» (Кн. 8. СПб., 1894) в исследовании «Гоголь. Творчество, жизнь и религия»; и так же с неточностями воспроизводится фрагмент из письма от 16-21 апреля 1840 г. по книге П.А. Виско-ватова «Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество» (М., 1891) в работе «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества». Оба письма частично

публиковались и прежде, но полностью увидели свет в упомянутом издании [Белинский 1914,I III].
По признанию составителя, этот трехтомник не мог «считаться исчерпывающим» [Ляцкий 1914, VII]. Но, несмотря на объективные недостатки (отказ от специальных архивных разысканий, некоторые пропуски, редакторские купюры, неточности; кроме того, Ляцкий «был стеснен цензурными условиями, которые не давали ему возможности полностью печатать антиправительственные и антиклерикальные высказывания Белинского» [От редакции 1956, 5]), он несколько десятилетий сохранял научную значимость, во многом - до появления академического «Полного собрания сочинений» ВТ. Белинского в 13 томах (М., 1953-1959), И и 12 тома которого составили письма. Даже Ю.Г. Оксман, критиковавший Ляцкого за «примитивность редакционных приемов» и «беспомощность как текстолога и источниковеда» [Оксман 1950, 208], отмечал, что в издании 1914 г. «впервые письма Белинского были объединены с максимальной для своего времени полнотой» [Оксман 1950, 201]. (В скобках добавим, что в советском «белинсковедении» это издание оценивалось негативно еще и «в связи с политической конъюнктурой (его составитель - Ляцкий < > был либеральным историком, эмигрантом)» [Тихонова 2003, 230]). См. также список дореволюционных рецензий на указанный трехтомник: [Библиографический указатель 1951, 427]).
Иными словами, для своего времени Мережковский выбрал наиболее репрезентативный и надежный источник. Он делал выписки из писем, относящихся к разным периодам жизни Белинского, но при этом практически нигде (если не считать двух посланий - И.С. Тургеневу и М.М. Попову) не называл адресатов и не указывал даты. Только в результате постраничного сравнения отобранных Мережковским цитат с трехтомником 1914 г. удалось установить их точное происхождение. Выяснилось, что из трех томов, которые содержат около трехсот писем, для выписок было использовано не менее восьмидесяти эпистолярных текстов. Среди них - письма к родителям (начало сентября <2-5 сентября> 1829; 17 февраля, 29 сентября, 25 декабря <на самом деле письмо адресовано только М.И. Белинской> 1831; отдельно - к матери от 20 февраля 1833 и к отцу от 21 мая 1833); брату Константину (27 января 1832; 19 июля 1833); М.В. Белинской (24 июня 1846; 24 мая 5 июня н.с.>, 22-23 июля 3-4 августа н.с.> 1847); К.С. Аксакову (23 августа 1840); П.В. Анненкову (15 февраля 1848); М.А. Бакунину (16 августа, 21 сентября, 1 ноября, между 15 и 21 ноября <15-20 ноября>, 21 ноября 1837; 20 июня <20-21 июня>, 16-17 августа, 10 сентября, 12-24 октября 1838; 26 февраля 1840; 7 ноября 1842); Н.А. Бакунину (6-8 апреля 1841; 23 февраля <22-23 февраля, адресовано А.А., В.А., Н.А. и Т.А. Бакуниным> 1843); сестрам Бакуниным (8 марта 1843); В.П. Боткину (конец лета <наиболее вероятно - 10-16 фев-раля>, 22 ноября, 16 декабря 1839 - 10 февраля 1840; февраль <около 22 февраля>, 3-10 февраля, 18-20 февраля, 24 февраля - 1 марта, 14 марта <14-15 марта>, 19 марта, 16 апреля <16-21 апреля>, 24 апреля, 16 мая,

13 июня, 12 августа, 12-16 августа, 5 сентября, 4 октября, 10-11 декабря 1840; 30 декабря 1840 - 22 января 1841; 1 марта, 27-28 июня, 8 сентября 1841; март <14 марта>, 31 марта, апрель <15-20 апреля>, 13 апреля, 9-10 декабря 1842; 6 февраля, 31 марта - 3 апреля, 30 апреля 1843; 28 февраля, 7 19 н.с.> июля, 4-8 ноября, декабрь <2-6 декабря> 1847); А.И. Герцену (26 января 1845); Н.В. Гоголю (3 15 н.с.> июля 1847); А.П. Ефремову (1 августа 1838; 23 августа 1840; в этом же ряду - записки 1838-1839); Д.П. Иванову (7 августа 1837); К.Д. Кавелину (22 ноября, 7 декабря 1847); А.А. Краевскому (<9-10 апреля> 1841); П.Н. Кудрявцеву (24 апреля 1840); А.Я. Кульчицкому (3 сентября 1840); И.И. Панаеву (18 февраля, 19 августа 1839); М.М. Попову (27 марта 1848); Н.В. Станкевичу (8 ноября, 1838; 19 апреля, 29 сентября - 8 октября 1839); И.С. Тургеневу (19 февраля 3 марта н.с.> 1847).
Всего - более двадцати адресатов. Даты в круглых скобках (включая широкую датировку) приведены по изданию Ляцкого без изменений, хотя современному текстологу в этом отношении следует ориентироваться не столько на него, сколько на академическое собрание сочинений Белинского, в котором содержатся существенные исправления и уточнения (в том числе - по автографам). Если датировка между двумя этими изданиями не совпадает, то более корректная указана нами в угловых скобках.
***
Оставшиеся выписки Мережковского к «Завету Белинского» сделаны из источников, которые можно разделить на два типа: историко-литературные исследования и эгодокументальные материалы. Выбор научных работ не удивляет. На первом месте - авторитетнейший на тот момент труд покойного академика А.П. Пыпина «Белинский, его жизнь и переписка». Впервые он появился на страницах «Вестника Европы» (1874-1875), отдельной книгой вышел у М.М. Стасюлевича в 1876 г, но, как удалось установить по зафиксированным при цитатах номерам страниц, Мережковский использовал более полное второе издание: [Пыпин 1908]. Дополнения и примечания по материалам и разметкам Пыпина выполнил зять ученого -Ляцкий (был женат на его старшей дочери - Вере Александровне). Надо заметить, что трехтомник писем Белинского он так же готовил с опорой на пыпинскую коллекцию, чего не скрывал: «.. .редактор настоящего издания мог воспользоваться собранием Пыпина, за некоторыми неизбежными исключениями, почти сполна» [Ляцкий 1914, V]. По мнению обозревателя «Вестника Европы», книга Пыпина о Белинском в начале XX в., «можно сказать, свежее и нужнее, чем тридцать лет назад. <...> она как нельзя более отвечает новому историческому интересу, и среди новейших исследований этого рода нет ни одного, которое могло бы сравниться с нею по обилию и важности материала» [Вестник Европы 1907, 827].
Примечательно, что Мережковского в этой научной биографии привлекли прежде всего не ученые умозаключения, а включенные в нее факты, в том числе из примечаний, отсылающих к иным источникам - публи-
кациям в периодических изданиях «Русская старина» и «Былое» (в частности, о мотивах приглашения критика в Третье отделение) [см.: Пыпин 1908, 658-659], свидетельства современников (А.И. Герцена, М.М. Попова, Н.Н. Тютчева) и письма самого Белинского - к М.А. Бакунину от ноября 1837 (<15-20 ноября>), В.П. Боткину от 22 ноября 1839 и 28 февраля 1847, И.И. Панаеву от 19 августа 1839, Н.В. Станкевичу от 29 сентября - 8 октября 1839. То обстоятельство, что перечисленные письма цитируются не по трехтомнику 1914г, куда они вошли, наряду с характером авторских выписок, их последовательностью (убористым почерком, между строк и на полях), говорит о более поздней работе Мережковского с монографией Пыпина.
Это предположение можно распространить еще на один историко-литературный труд, послуживший источником информации при создании «Завета Белинского»: Иванов-Разумник. [Сочинения]. Т. III: Великие искания. СПб.: Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, [1911; по др. сведениям - 1912]. Впоследствии данное исследование выходило отдельно под заглавиями «ВТ. Белинский» (Нг, 1918) и «Книга о Белинском» (Нг, 1923; дополненное). В его основу была положена вводная статья к подготовленному Ивановым-Разумником юбилейному собранию сочинений Белинского в трех томах (СПб., 1911).
Рецензент «Русской мысли» рекомендовал «Великие искания» читателю «как весьма интересную попытку анализа душевной драмы Белинского», хотя посчитал название тома «несколько крикливым» (ср. с заголовком другой публикации Иванова-Разумника: Великий искатель. ВТ. Белинский. 1811-1911 // Русское богатство. 1911. № 5. Отд. I. С. 145-175), отметил «небольшую фактическую несообразность» и упрекнул автора за то, что он «без достаточного основания чересчур сурово и даже почти презрительно охарактеризовал брак Белинского» [Корнилов 1913, 331-332]. Но Мережковского заинтересовал не этот «сюжет». Свои выписки он расширил цитатами или сведениями из использованных в книге писем Белинского - к М.А. Бакунину от 21 ноября 1837, В.П. Боткину от 3-10 февраля 1840, 31 марта - 3 апреля 1843, 6 февраля и 7/19 июля 1847. Даже выполненный Ивановым-Разумником разбор юношеской пьесы критика «Дмитрий Калинин» привлек Мережковского не сам по себе, а проведенной исследователем параллелью между мыслями героя (см. выписку: «Ив. Раз. 19. - “Миром правит не Бог, а дьявол. Хула на Бога” » [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 18 об.; здесь и далее все графические выделения - из цитат. - Л.Х]; ср. с источником: «Что же понимает Дмитрий Калинин? Мы уже знаем это: он думает, что миром правит не Бог, а дьявол... <...> А отсюда - “хула на Бога, как на тирана, который утешается воплями своих жертв, который упивается их слезами”» [Иванов-Разумник 1911 (1912), 19]) и сделанным спустя десятилетие личным признанием Белинского в письме к В.П. Боткину от 1 марта 1841 г: «я из числа людей, которые на всех вещах видят хвост дьявола...» [Иванов-Разумник 1911 (1912), 22] (ср. с выпиской: «“Я один из тех людей, котор. видят на всех вещах хвост дья-
вола<”>» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 18 об.]).
Строго говоря, главное внимание на эпистолярное наследие обратил сам Иванов-Разумник: «В настоящей книге почти все выдержки из писем Белинского приводятся полностью; ряд отрывков печатается впервые» [Иванов-Разумник 1911 (1912), 2]. Это стало возможным благодаря тому, что Ляцкий еще до издания собрания писем Белинского откликнулся на просьбу Иванова-Разумника и разрешил ему изучить материалы из пы-пинского архива (фрагмент письма Иванова-Разумника к Ляцкому цитируется в примечаниях к публикации: [Письма РВ. Иванова-Разумника 1998, 52-53]; см. также примечания к публикации: [Лавров 2019, 74, 76, 77]). Исследователь печатно приносил «глубокую благодарность наследникам А.Н. Пыпина» [Иванов-Разумник 1911 (1912), 2], а после выхода эпистолярного трехтомника откликнулся на него восторженной рецензией, завершающейся словами: «живой Белинский перед нами» [Иванов-Разумник 1913, 186].
Произведенный Мережковским выбор историко-литературных источников закономерен. С одной стороны, писатель взял наиболее полные и надежные в фактологическом отношении труды, а с другой - обнаружил свою близость к стану защитников Белинского в споре, развернувшемся вокруг него в Серебряном веке и достаточно хорошо известном [см.: В.Г. Белинский: pro et contra 2011]. Так, Иванов-Разумник (Правда или кривда? // Заветы. 1913. № 12. Отд. II. С. 75-84) и Ляцкий (Господин Айхенвальд около Белинского // Современник. 1914. № 1. С. 111-118) полемизировали с Ю.И. Айхенвальдом, который своей атакой на Белинского в «Силуэтах русских писателей» (Вып. III. 2-е изд. М., 1913 - здесь впервые появился очерк о Белинском) вызвал волну критики (обзор полемических откликов см.: [Библиографический указатель 1951, 442-443; Летопись 2005, 249-250]) и освежил в памяти нашумевшую дискуссию о сборнике «Вехи» (1909). Неслучайно в преамбуле к «Завету Белинского» звучит открытый выпад в адрес «веховцев» и «кающихся интеллигентов» - «Булгаковых, Эрнов, Струве, Гершензонов, Евг. Трубецких, Флоренских и проч., и проч., которые уверяли нас, что в освободительном движении интеллигенция обнаружила, перед лицом народа, свое ничтожество, что интеллигенция разгромлена окончательно» [Мережковский 1915, 6].
Однако открыто Мережковский вступает в спор не столько с теми, кто в начале XX в. ниспровергал «прообраз всей русской интеллигенции» [Мережковский 1915, 7], сколько с их «учителем» - Ф.М. Достоевским, который вынес Белинскому приговор: «“Этот человек ругал мне Христа”. Он “бил по щекам свою мать” - Россию. “Это было самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни”» [Мережковский 1915, 8]. В «Завете Белинского» Мережковский несколько раз воспроизводит фрагменты из процитированного только что письма Достоевского к Н.П. Страхову от 18/30 мая 1871г. Прежде к этому же источнику он обращался в «Грядущем Хаме» (гл. VI), где содержатся ростки будущего выступления о Белинском, а еще раньше - в трактате «Л. Толстой и Достоевский». Именно там, в
основном тексте [Мережковский 2021, 72], сохранилась точная отсылка к изданию, которым Мережковский пользовался: Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. С портретом Ф.М. Достоевского и приложениями. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1883 (см. также отдельной книгой: Биография, письма и заметки из записной книжки Ф.М. Достоевского. С портретом Ф.М. Достоевского и приложениями. СПб.: Тип. А.С. Суворина, 1883). В подготовительных материалах автор сопроводил все цитаты из письма Достоевского к Страхову соответствующими этому изданию номерами страниц [см.: РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 10 об., 19, 20 об.].
Когда Мережковский заявляет, что «в защиту Белинского не поднялось ни одного голоса» [Мережковский 1915, 8], то имеется в виду отстаивание религиозности его сознания, а значит, и всей русской интеллигенции, «потому что она вся в него, как дети в отца или внуки в деда» [Мережковский 1915, 8]. В этом отношении симптоматично возмущение критиков, не разделявших посыл Мережковского: «Да какая была надобность защищать его? До последнего известного выступления Айхенвальда никому и в мысль не приходило, что есть какие-нибудь враги Белинского, достойные схватки. А неврастенический выкрик Достоевского, кажется, и в самом деле не вызвал возражений. И как на этот “приговор” возражать? Это - не довод, это - ругательство» [Голиков 1915, 637]. И хотя в окончательном тексте «Завета Белинского» нет ни одного упоминания Иванова-Разумника (в отличие от Ляцкого, который включен в библиографическое описание подготовленных им томов писем), следы текста «Великих исканий» обнаруживаются благодаря анализу подготовительных материалов. В них Мережковский трижды фиксирует одну и ту же цитату с прямой отсылкой к исследованию Иванова-Разумника: «Бог был моей первою мыслью, человечество - второю, человек - третьей и последней» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 15, 17 об., 19], - связывая тем самым части с пока еще рабочими, но концептуально «говорящими» заголовками «Личность, как начало метафизическое», «Общественность, социализм, революция» и «Религия». В итоговом тексте эта фраза открывает безымянную четвертую часть: «“Бог был моей первою мыслью, человечество - второю, человек -третьей и последней”. Таковы три мысли, три веры Белинского» [Мережковский 1915, 28].
Здесь важно не то, что Мережковский цитирует по книге Иванова-Разумника близкую позднему мироощущению Белинского формулу Л. Фейербаха, которая с оригинала переводится несколько иначе: «Моей первой мыслью был Бог, второй - разум (а не человечество. - Л.Х), третьей и последней - человек» [Фейербах 1995, 415]. Гораздо важнее, что ход мыслей Мережковского оказывается чрезвычайно близок логике Иванова-Разумника, который предпосылает знаменитым словам собственное рассуждение: «Остановились ли бы на этой точке великие искания неистового Виссариона? Или снова от человека он перешел бы к Богу - новыми, углубленными путями? Или понял бы, что человек соединяет в себе и
Человечество и Бога? Смерть не дала времени Белинскому еще раз поставить и пересмотреть эти вопросы» [Иванов-Разумник 1911 (1912), 116]. Мережковский, в свою очередь, заключает: «Белинский так и не сумел замкнуть круг своего сознания, свести концы с концами, соединить три мысли, три веры в одну. Но недаром выходит одна из другой, одна продолжает другую. И недаром все три вспоминаются вместе, в каком-то единстве несознанном. Замкнуть круг сознания, соединить первую мысль о Боге с последнею - о человеке - нельзя иначе, как в мысли о Богочеловеке, о Христе» [Мережковский 1915, 28]. Как видно, автор «Завета Белинского» более прямолинеен и назидателен в своем стремлении уничтожить противоречие между «явным безбожием интеллигентского сознания» и «тайною религиозностью интеллигентской совести»: «Нам нужно изменить наше сознание, не изменяя нашей совести» [Мережковский 1915, 41-42]. Но разглядеть за этой «проповедью» первоисточник мысли, получившей самостоятельное развитие, - одна из насущных текстологических задач.
Скрытые переклички в работах «светского» Иванова-Разумника, который «почти превратил Белинского в богоискателя» [Ермичев 2011, 47], и Мережковского (в его работе есть и другие заимствования из «Великих исканий» без указания на источник - см. описание бытовых условий жизни Белинского в Москве) нетривиальны еще и потому, что с начала 1910-х гг. отношения между авторами (которых принято считать идейными оппонентами) были натянутыми, а в 1917 г. совсем испортились. Названия критических статей Иванова-Разумника о Мережковском более чем красноречивы: «Пастырь без стада» (Русские ведомости. 1911. 6 марта. № 53. С. 3), «Мертвое мастерство» (Русские ведомости. 1911. 27 марта. № 70. С. 4-5), «Клопиные шкурки» (Заветы. 1913. № 2. Отд. II. С. 105-114) [см. также: Белоус 2009, 55-69]. Не эта ли неприязнь - одна из возможных причин, почему в «Завете Белинского» так тщательно закамуфлированы следы «Великих исканий»? Как бы то ни было, последним объединяющим обе работы штрихом можно считать их выход в книгоиздательстве Н.Н. Михайлова «Прометей» с ярко выраженным демократическим направлением.
***
Среди эгодокументальных источников, выписки из которых оказались в подготовительных материалах Мережковского, особое место занимают мемуарные тексты о Белинском. К 1915 г. их вышло около шестидесяти [см.: Библиография воспоминаний 1929, 381-414; Библиографический указатель 1951, 483-521], но полного сводного указателя еще не было: «Мысль о составлении библиографии воспоминаний о Белинском возникла <...> в 1916 году в семинарии по Белинскому, работавшем под руководством Н.К. Пиксанова в б. Петроградском университете» [Библиография воспоминаний 1929, 384]. Мережковский остановился на мемуаристах, которые скорее симпатизировали Белинскому: И.С. Тургенев, И.И. Панаев, П.В. Анненков. Именно в такой последовательности их имена указаны
в части «Воспоминания о Белинском» черновых выписок к «Завету Белинского» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 8-9]. В других разделах подготовительных материалов («О своей жизни», «Литература», «Россия») встречаются также специальные отсылки к мемуарам А.Я. Головачевой-Панаевой [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 5 об., 6, 20 об.].
Благодаря обследованию архивных выписок Мережковского, прежде всего - сравнению зафиксированных при них номеров страниц со всеми появившимися к тому времени изданиями и переизданиями воспоминаний перечисленных мемуаристов, удалось установить, по каким из них он работал. Так, «западнические» воспоминания Тургенева о Белинском, к написанию которых классик приступил в 1867 г, использовались не по последнему прижизненному изданию братьев Салаевых «Сочинения И.С. Тургенева» в 10 томах (М., 1880. Т. I. С. 19-62), как мы предполагали ранее [Холиков 2021, 191]. Выяснилось, что Мережковский по одной книге цитирует не только текст «Воспоминаний о Белинском» (впервые: Вестник Европы. 1869. № 4. С. 695-729), включенный в «Литературные и житейские воспоминания», но и более ранний набросок «Встреча моя с Белинским» (впервые: Московский вестник. 1860. 23 января. № 3. С. 40-42), который в составе собраний сочинений впервые был напечатан в 3-м издании «Полного собрания сочинений И.С. Тургенева» (Т. 10. СПб.: Тип. Глазунова, 1891. С. 501-508), но начиная с 4-го издания (1897) страницы для этого текста сместились (521-528) и полностью совпали с теми, которые указывает Мережковский. Поскольку последующие переиздания этого тома были стереотипными, писатель мог также использовать 5-е (1911), 6-е (1913) и с наименьшей вероятностью - 7-е (1915). Цитаты из мемуаров Тургенева оказались не только в части выписок «Воспоминания о Белинском», но и в других - «О своей жизни», «О себе, как личности», «Россия» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 4 об., 10 об., 20 об.]. Мережковского заинтересовали оценочные высказывания Тургенева, переданные им сведения о наружности, характере Белинского, манере говорить (в том числе - прямая речь), особенности работы над статьями.
«Воспоминание о Белинском» И.И. Панаева, одного из наиболее близких ему людей и соратников (впервые: Современник. 1860. № 1. С. 335— 376), цитируется Мережковским по книге: Панаев И.И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском. СПб.: Издание В. Ковалевского, 1876. С. 359-413. Привлечены фрагменты, описывающие внешний вид Белинского, его поведение и высказывания, бытовые реалии, отношение к литературному труду, предсмертные дни.
Фрагменты из мемуарного текста П.В. Анненкова «Замечательное десятилетие. 1838-1848» (впервые: Вестник Европы. 1880. № 1-5), к созданию которого он приступил по совету Пыпина, задумавшего свой труд о Белинском [Ухмылова 1951, 303-318], воспроизводятся Мережковским по изданию: Анненков П.В. Воспоминания и критические очерки: собрание статей и заметок. Отд. III. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1881. С. 1-224. Из него приведены нелицеприятные слова Н.П. Греча о Белинском, выпи-
саны штрихи к характеру критика и последним дням его жизни.
Наименее авторитетное в этом ряду - не по мемуарной ценности, которая высока, а по качеству подготовки текста - издание воспоминаний А.Я. Головачевой (Панаевой). Мережковский взял не первую публикацию в «Историческом вестнике» (1889. Т. XXXV XXXVIII. № 1-11), тоже пострадавшую от цензорской и редакторской правки С.Н. Шубинского, но еще более урезанное отдельное издание книгопродавца В.И. Губинского под заглавием «Русские писатели и артисты. 1824-1870» (СПб., 1890). «Книга, - по оценке К.И. Чуковского, - была издана неряшливо, на скверной бумаге, с несметным числом опечаток. Успеха она не имела и после смерти писательницы долго еще валялась на полках у книжных торговцев» [Чуковский 1986, 12]. Мережковский извлекает свидетельства о событиях, предшествовавших смерти Белинского, и ряд самохарактеристик критика.
Авторов воспоминаний, сведения из которых вошли в подготовительные материалы к «Завету Белинского», объединяет не только близость и уважительное отношение к их герою. Все они мастерски рисуют живой, полнокровный портрет Белинского как личности - человека, мыслителя, литератора. Пожалуй, в этом - один из важнейших побудительных мотивов обращения к ним Мережковского, предложившего своим читателям не только вслушаться в голос «неистового Виссариона», но и вглядеться в лицо: «...чтобы услышать говорящего, как следует, надо сначала увидеть, кто говорит» [Мережковский 1915, 9]. Разумеется, воссозданный образ в большей степени соответствовал не оригиналу, а нуждам Мережковского - публициста и религиозного философа. Ключ к объяснению этой трансформации - как в отборе, так и в характере его работы с документальными источниками.
***
Делая выписки из них, Мережковский исправно указывает номера страниц, томов (для писем Белинского) и фамилии авторов (для исследований и воспоминаний). К одной из цитат он добавляет собственное пояснение: «Мысль - страсть» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 6 об.], -которое войдет и в основной текст «Завета Белинского». В остальных случаях подготовительные материалы скроены сплошь из «чужого» слова. Тщательность постраничной нумерации (отклонения здесь крайне редки) граничит с искажениями иного рода. Большая их часть носит сугубо технический характер. Мережковский порой неточно передает пунктуацию и орфографию, не всегда сохраняет авторские маркировки в тексте и допускает свои, меняет лексико-грамматические формы, сокращает написание отдельных слов, пропускает части цитат без указания на купюры. Иной раз он невнимательно выписывает слова: «Неустранимая черта грусти» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 9] (ср.: «неотстранимая черта грусти» [Анненков 1881, 14]) - или добавляет свои: «Поношенный длинный сюртук, застегнутый накриво » (подчеркнуто синим карандашом. - Л.А) [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 8] (слова «поношенный» в первоисточ-
нике нет [Панаев 1876, 370]). Не останавливаясь на примерах, когда Мережковский конспективно излагает прочитанное, рассмотрим факты более существенного вмешательства с его стороны.
Во-первых, речь идет о перестановках фрагментов внутри цитируемого текста. В каком-то случае это не меняет общий смысл высказывания: «Лучше сгнить в разврате, чем вздыхать о жестокой деве... Я не могу видеть в одной женщине условие жизни. Моя - хорошо; не моя - у Сомова славные устрицы» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 25] (ср.: «Я не могу видеть в одной женщине условие жизни. Моя - хорошо; не моя - у Сомова славные устрицы. <.. .> лучше сгнить в разврате, чем вздыхать о жестокой деве» [Белинский 1914, II, 292]). Другой пример - с явным смысловым искажением: «Всех стариков перевешал бы!.. Хотелось бы быть их палачом. .. потонуть в их крови, послать на них чуму и тешиться их муками!..» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 14] (ср.: «Я теперь понимаю раздражительность Гофмана при суждении глупцов об искусстве, его готовность язвить их сарказмами. Но язвить я не умею, а в иные минуты хотелось бы потонуть в их крови, послать на них чуму и потешиться их муками. <.. .> Что же касается до Полевого, Греча и Булгарина - бывают минуты, хотелось бы быть их палачом. С другой стороны, становлюсь как-то терпимее к слабости, ничтожеству и ограниченности людей. <...> Когда читаю в газетах, что такой-то действительный статский советник в преклонных летах отыде к праотцам - мне становится отрадно и весело. Всех стариков перевешал бы!» [Белинский 1914, II, 115]).
Во-вторых, Мережковский объединяет («сращивает») два цитируемых фрагмента в один. При этом они могут происходить из общего источника: «Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века! Боже мой, страшно подумать, что со мною было (гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью) - горячка или помешательство ума - я словно выздоравливающий» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 16 об.] (ср.: «Проклинаю мое гнусное стремление к примирению с гнусною действительностью! <...> Для меня теперь человеческая личность выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века! Боже мой, страшно подумать, что со мною было - горячка или помешательство ума - я словно выздоравливающий» [Белинский 1914, II, 163]). Вместе с тем источники у цитаты могут быть разными. Так, одна выписка: «Неимение платья не только приличного, но и никакого... Я взял у г. Ишутина панталоны и жилет, а у Дм. П. фрак и пр., да еще калоши, а у Алексея Петр, шинель и картуз» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 4] - включает фразы из двух писем Белинского - к матери (25 декабря, 1831) и брату Константину (27 января, 1832).
Похожую контаминацию встречаем в части воспоминаний о Белинском. С отсылкой к Тургеневу между строк вписано: «Криво приподымал верхнюю губу, покрытую подстриженным усом... Очень выдающиеся скулы...» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 8] (ср.: «...как-то криво при-
поднимая верхнюю губу, покрытую подстриженным усом...» [Тургенев 1897, 521]). Заметим, что про «выдающиеся скулы» Тургеневым ничего не сказано. Зато в монографии Пыпина вслед из взятым у того же Тургенева описанием наружности Белинского (поверх него Мережковский и вписывает процитированные выше слова) приводятся воспоминания К.Д. Кавелина, где читаем: «Очень некрасивы были у него выдав<ав>шиеся скулы» [Пыпин 1908, 573]. Оттуда же - приписка про «плоские» волосы (ср.: «некрасивые плоские волосы» [Пыпин 1908, 573], в то время как у Тургенева сказано: «густые белокурые волосы» [Тургенев 1897, 21]). В результате искусственного «скрещивания» двух портретных описаний у Мережковского получилось третье - «очень выдающиеся скулы, белокурые, плоские волосы» [Мережковский 1915, 10]. Следов непосредственного знакомства с воспоминаниями Кавелина, которые он записал по просьбе Пыпина в 1874-м (в полном виде вошли в 3-й том его собрания сочинений 1899 г. издания), в подготовительных материалах к «Завету Белинского» нет.
В-третьих, Мережковский может вырвать нужную ему фразу из конкретного контекста для создания максимально обобщенной характеристики: «В бешенстве я никому на свете не уступлю... Я вознеистовствовал» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 10] (ср.: «...в бешенстве и ядовитом остроумии я никому на свете не уступлю; <...> когда стал вновь перечитывать твое письмо, чтобы возразить на главные пункты, - я снова вознеистовствовал» [Белинский 1914,1, 305]).
В-четвертых, встречается пример изменения смысла цитаты на противоположный: «Попаду в солдаты за какую-нибудь безделицу» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 4] (ср.: «...я теперь уверен, что не попаду без всякого суда в солдаты за какую-нибудь безделицу...» [Белинский 1914, I, 55]).
В-пятых, исключается та часть цитируемого высказывания, которая идет вразрез с конструируемым образом Белинского - «“монаха” - от чрева матернего» [Мережковский 1915, 13]: «Родился я больным при смерти, груди не брал и не знал ее, сосал я рожок, и то, если молоко было прокислое и гнилое, - свежего не мог брать» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 4 об.]. Здесь Мережковский выбрасывает совершенно лишнее для стройности его концепции признание самого Белинского после слов: «груди не брал и не знал ее» - «(зато теперь люблю ее вдвое)» [Белинский 1914, II, 112].
На этом показательном примере мы вплотную приблизились к проблеме принципов отбора материала. Конечно, не все из рассмотренных выписок вошли в окончательный текст «Завета Белинского», но типологически они наглядно раскрывают характер работы Мережковского с источниками и пути их трансформации. Строго говоря, автору пришлось пожертвовать весьма значительной частью заготовленных цитат. Прежде всего - однотипных, не добавляющих новых черт к уже запечатленным им при портретировании Белинского. Невостребованной осталась часть «Бакунин, Катков, Хомяков, Лермонтов, Герцен» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232.

Л. 2-3 об.]. Многое исключено из того, что относится к философии Гегеля, художественной литературе и работе Белинского над статьями; существенно сокращены свидетельства о его поездке в Европу; редуцированы (лишены конкретики и «приземляющих» образ грубых и «легкомысленных» деталей) пассажи о тяге критика к чувственным наслаждениям, в частности - из раздела «Женщины. Вино. Карты» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 24-25 об.]. Оставшиеся цитаты подкрепляли антиномичный тезис Мережковского: «Явный брак, явный блуд - тайная “девственность” или “скопчество”» [Мережковский 1915, 16].
Наконец, с утверждением, что «род Белинских - старинный “духовный” род» [Мережковский 1915, 12], откровенно диссонировала бы цитата об отце Виссариона Григорьевича, который «Вольтера соединял с Эккарт-сгаузеном и Юнгом-Штиллингом» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 5]. В книге Пыпина этим сведениями, заинтересовавшим сперва Мережковского, предшествуют слова о том, как «все грамотное население города и уезда обвиняло» Григория Никифоровича «в безбожии, нехождении в церковь» [Пыпин 1908, 8]. Более убедительной выглядела параллель с дедом, о. Никифором: «.. .был священником в селе Белыни Пензенской губернии; вырастив детей, он удалился от своих и провел остаток жизни в посте и молитве, полузатворником; в семье его считали “святым”» [Мережковский 1915, 12].
Вероятно, по сходной причине осталось невостребованным эпистолярное признание Белинского: « Жид - не человек» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 20] (ср.: «Недаром все нации в мире, и западные и восточные, и христианские и мусульманские, сошлись в ненависти и презрении к жидовскому племени: жид - не человек; он - торгаш par excellence» [Белинский 1914, III, 332]). Как бы оно согласовывалось с проведенным у Мережковского противопоставлением «национализма “звериного образа”» («лжи Достоевского») - «правде Белинского»: «Да будет проклята всякая народность, исключающая из себя человечность!» [Мережковский 1915, 39]?
При включении в основной текст «Завета Белинского» какие-то выписки были дополнительно расширены по первоисточнику, какие-то - сокращены. Вероятно, с этой целью (для удобства собственного поиска) Мережковский старательно сохранял при них черновые отсылки к номерам страниц. Однако, публикуя работу, он даже в кавычки не посчитал нужным заключить все использованные им цитаты из исследований и мемуаров. Имена Тургенева и Анненкова еще фигурируют в тексте Мережковского, авторство остальных (Панаевы, Пыпин, Иванов-Разумник) тщательно скрыто (о причинах исчезновения имени Головачевой-Панаевой в тексте брошюры см. подробно: [Холиков 2021, 190-191]). Помимо источников, выписки из которых содержатся в подготовительных материалах, Мережковским процитированы: письма Белинского к Н.А. Бакунину (9 декабря, 1841; 28 ноября, 1842) и Н.В. Гоголю (20 апреля, 1842); заметки из записной тетради Достоевского (1881), его же «Дневник писателя» (1876) и
роман «Братья Карамазовы»; майские дневниковые записи А.И. Герцена за 1844 г; стихотворение Н.А. Некрасова «Памяти Белинского».
Представленные факты позволяют предположить, что дошедшие до нас подготовительные материалы относятся к самому раннему этапу работы над «Заветом Белинского», а потому и рубрикация их не соответствует окончательной композиции выступления, она отражает лишь логику первичного сбора материала, которая несколько раз менялась. Выпискам предпослан план из одиннадцати пунктов: «I. О своей жизни. II. О себе. III. Литература. IV. Действительность и отвлеченность. V. Женщины, карты. VI. Социализм, революция. VII. Личность, как начало метафизическое. VIII. Религия. IX. Бакунин, Катков и пр. X. Европа. XI. Россия» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 1]. Однако заголовки, последовательность и количество частей внутри этого архивного документа отличались: «1)0 своей жизни», «2) О себе, как личности» , «3) Личность, как начало метафизическое», «4) Общественность, социализм, революция», «5) Религия», «6) Действительность и отвлеченность. Философия Гегеля», «7) Бакунин, Катков, Хомяков, Лермонтов, Герцен», «8) Женщины. Вино. Карты», «9) Литература », «10) Западная Европа», «И) Россия», «12) Воспоминания о Белинском» [РО ИРЛИ. Ф. 177. Ед. хр. 24.232. Л. 4, 10, 16, 14, 18, 12, 2, 24, 6, 22, 20, 8]. Предварительные структурные задачи преследовала еще и цифровая маркировка цветными карандашами, сделанная поверх выписок (некоторые повторяются в разных частях).
***
Репутация Мережковского - «полководца цитат» - сложилась при жизни писателя и справедливо укрепилась в исследовательской литературе. Трудно найти рецензента или критика, который не пенял бы ему за это. «Завет Белинского» не стал исключением. «Понятно, - читаем в одном из отзывов о брошюре Мережковского, - что его смелой руке есть где разгуляться для рекрутского набора своей доблестной армии. В этой области слишком легко (да, разумеется, и заманчиво) быть “царем цитат”» [Голиков 1915, 627]. Но для науки важна не констатация общих мест, а скрупулезное изучение механизмов работы автора с «чужим» словом и точный ответ на вопрос - какими путями шел Мережковский, чтобы, как отмечали современники, «не хуже Айхенвальда, - хотя совсем с другими намерениями» - «не опорочить, а канонизировать, не принизить, а возвести в святость» образ Белинского [Голиков 1915, 636] - «аскета», «мученика», «мнимого атеиста» с «бессознательными поисками веры», «завет» которого в примирении «трагического противоречия между стихией религиозной и общественной» («почти совпадающий с неохристианским мессианством самого Мережковского» [Голиков 1915, 632]). К сожалению, исследования подобного рода появляются нечасто (среди исключений - книга Е.А. Андрущенко «Властелин “чужого”: текстология и проблемы поэтики Д.С. Мережковского» (М., 2012) [Андрущенко 2012]; см. также: [Холиков 2013, 40-74]). Впрочем, архивные материалы, поднимающие завесу над
творческой лабораторией писателя, сохранились далеко не по каждой публикации. Тем пристальнее должно быть внимание к ним для нужд текстологии и эдиционной практики, реконструкции «круга чтения» и библиотеки писателя (в случае с Мережковским сведения о ней фрагментарны [см.: Блинова 2018, 436-465]), решения вопроса о влияниях и заимствованиях, а в конечном счете, - для углубления наших представлений об индивидуально-авторской поэтике текста.
Список литературы Источниковедческие и методологические аспекты творческой лаборатории Д.С. Мережковского (из подготовительных материалов к «Завету Белинского»)
- [Б.п.] А.Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка. Издание второе, с дополнениями и примечаниями. Книгоиздательство «Колос». С.-Петербург. 1908 // Вестник Европы. 1907. № 12. С. 826-829.
- Андрущенко Е.А. Властелин «чужого»: текстология и проблемы поэтики Д.С. Мережковского. М.: Водолей, 2012. 248 с.
- Анненков П.В. Воспоминания и критические очерки: собрание статей и заметок. Отд. III. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1881. 383 с.
- Белинский В.Г. Письма: в 3 т. / Ред. и прим. Е.А. Ляцкого. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1914.
- Белоус В. Об одном инциденте в петербургском Религиозно-философском обществе и его последствиях // На рубеже двух столетий: Сборник в честь 60-летия А.В. Лаврова. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 55-69.
- Библиографический указатель сочинений Белинского и литературы о нем. 1899-1950 гг. / Сост. К. Богаевская; библиогр. ред. Ю.И. Масанова // Литературное наследство. Т. 57. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 411-534.
- Библиография воспоминаний о Белинском / Сост. М.К. Клеман // Виссарион Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников / Собрал и коммент. М.К. Клеман; предисл. и ред. Н.К. Пиксанова. Л.: Academia, 1929. С. 381-414.
- Блинова О.А. Парижская научная библиотека Д.С. Мережковского // Д.С. Мережковский: писатель - критик - мыслитель: Сборник статей / Ред.-сост. О.А. Коростелев, А.А. Холиков. М.: Дмитрий Сечин, Литфакт, 2018. С. 436-456.
- В.Г. Белинский: pro et contra: Личность и творчество В.Г. Белинского в русской мысли (1848-2011): Антология / [Сост., вступ. ст., коммент. А.А. Ермичева]. СПб.: РХГА, 2011. 1167 с.
- Голиков В.Г. Неуслышанная речь (Об интеллигенции) // Вестник знания. 1915. № 9. С. 626-638.
- Ермичев А.А. Виссарион Григорьевич Белинский: против стереотипов // B.Г. Белинский: pro et contra: Личность и творчество В.Г. Белинского в русской мысли (1848-2011): Антология / [Сост., вступ. ст., коммент. А.А. Ермичева]. СПб.: РХГА, 2011. С. 7-52.
- Иванов-Разумник. [Сочинения]. Т. III: Великие искания. СПб.: Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, [1911 (1912)]. 178 с.
- Иванов-Разумник. Письма Белинского // Заветы. 1913. № 12. Отд. II. C. 184-186.
- И.К. [Кириллов И.] Д.С. Мережковский. «Завет Белинского». Кн-во «Прометей». М. 1915 г. стр. 43. Цена 30 к. // Слово церкви. 1915. 27 сентября. № 39. С. 919.
- Корнилов А. Иванов-Разумник. Великие искания. Кн-во «Прометей». Спб., 1912 г. Стр. 167. Ц. 1 р. 25 к. // Русская мысль. 1913. № 9. Критико-библиогр. отд. С. 331-332.
- Лавров А.В. Письма Иванова-Разумника к М.О. Гершензону // Литературный факт. 2019. № 2(12). С. 58-98.
- Летопись литературных событий в России конца XIX - начала ХХ в. (1891 - октябрь 1917). Вып. 3 (1911 - октябрь 1917) / Ред.-сост. М.Г. Петрова. М.: ИМЛИ РАН, 2005. 670 с.
- [Ляцкий Е.А.] От редактора // Белинский В.Г. Письма: в 3 т. Т. 1 / Ред. и прим. Е.А. Ляцкого. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. С. Ш-УШ.
- Мережковский Д.С. Собрание сочинений: в 20 т. Т. 10. Л. Толстой и Достоевский: Исследование / Подгот. текста, послесл. Е.А. Андрущенко; примеч. Е.А. Андрущенко при участии Н.Г. Андрущенко. М.: Дмитрий Сечин, 2021. 811 с.
- Мережковский Д.С. Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы / Изд. подг. Е.А. Андрущенко. СПб.: Наука, 2007. 902 с.
- Мережковский Д.С. Завет Белинского: Религиозность и общественность русской интеллигенции. [Пг.]: Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, [1915]. 43 с.
- Оксман Ю.Г. Переписка Белинского. Критико-библиографический обзор // Литературное наследство. Т. 56. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 201-254.
- От редакции // Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. Т. 11. Письма. 1829-1840. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 5-6.
- Панаев И.И. Литературные воспоминания и воспоминания о Белинском. СПб.: Издание В. Ковалевского, 1876. 420 с.
- Перцов П. Литературная пестрядь // Новое время. Илл. прил. 1915. 19 сентября (2 октября). № 14198. С. 9-10.
- Письма Р.В. Иванова-Разумника к А.М. Ремизову (1908-1944 гг.) / Публ. Е. Обатниной, В.Г. Белоуса и Ж. Шерона. Вступ. заметка и коммент. Е. Обатниной и В.Г. Белоуса // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. Вып. II. СПб.: [Б. и., 1998]. С. 19-122.
- Письмо Белинского к Гоголю / Статья и публ. К. Богаевской; коммент. Я.З. Черняка // Литературное наследство. Т. 56. М.: Изд-во АН СССР, 1950. С. 513-605.
- Полонский Гр. Из аудитории. «Завет Белинского» лекция Д.С. Мережковского // Наши дни. 1915. 8 марта. № 2. С. 13.
- Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка. СПб.: Книгоиздательство «Колос», Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. 662 с.
- Тихонова Е.Ю. О некоторых источниковедческих аспектах издания переписки В.Г. Белинского // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.): сборник статей / Отв. ред. А.И. Аксенов. М.: [Институт российской истории РАН], 2003. С. 227-243.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений. 4-е изд. Т. 10. СПб.: Тип. Глазунова, 1897. 616 с.
- Ухмылова Т. Материалы о Белинском из архива А.Н. Пыпина // Литературное наследство. Т. 57. М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 303-318.
- Фейербах Л. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1995. 424 с.
- Холиков А.А. «Завет Белинского» в изводе Д.С. Мережковского: от публичной лекции к брошюре (история текста и его литературно-критического восприятия) // Новый филологический вестник. 2020. № 3(54). С. 116-130.
- Холиков А.А. Исследовательские возможности текстологии: случай Д. Мережковского // Вопросы литературы. 2013. № 4. С. 40-74.
- Холиков А.А. Прижизненное полное собрание сочинений Дмитрия Мережковского: Текстология, история литературы, поэтика. М.; СПб.: Нестор-История, 2014. 344 с.
- Холиков А.А. Текстологические заметки к «Завету Белинского»: по архивным материалам из РО ИРЛИ и РГАЛИ // Новый филологический вестник. 2021. № 2(57). С. 184-193.
- Чуковский К. Панаева и ее воспоминания // Панаева А.Я. (Головачева). Воспоминания. М.: Правда, 1986. С. 5-14.