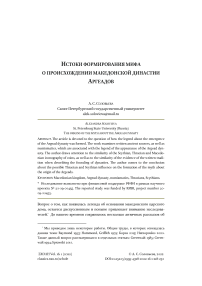Истоки формирования мифа о происхождении македонской династии Аргеадов
Автор: Соловьева Александра Сергеевна
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.16, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу о том, как формировалась легенда о появлении династии Аргеадов. В работе изучаются письменные античные источники, а также нумизматика, которые связаны с легендой о появлении Аргеадов. Автор обращает внимание на схожесть скифской, фракийской и македонской иконографии монет, а также на схожесть свидетельств письменной традиции при описании основания династий. На основе изученного материала автор приходит к выводу о возможном фракийском и скифском влиянии на складывание мифа о происхождении Аргеадов.
Македонское царство, Аргеады, нумизматика, фракийцы, скифы
Короткий адрес: https://sciup.org/147237630
IDR: 147237630 | DOI: 10.25205/1995-4328-2022-16-1-218-230
Текст научной статьи Истоки формирования мифа о происхождении македонской династии Аргеадов
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-09-00455. The reported study was funded by RFBR, project number 2009-00455.
Вопрос о том, как появилась легенда об основании македонского царского дома, остается дискуссионным и поныне привлекает внимание исследователей.1 До нашего времени сохранилось несколько античных рассказов об
IXOAHVol. 16.1(2022)
основании династии Аргеадов. Помимо письменных источников существуют так называемые фрако-македонские статеры и македонские монеты, связанные с легендой об основании царского дома Македонии. Целью данной работы является изучение возможного фракийского и скифского влияния на складывания македонского мифа об Аргеадах.
Самым ранним письменным свидетельством является рассказ Геродота о предках Александра I, в котором античный историк описывает, как потомки Темена переселялись на территорию Македонии (Hdt., VIII, 137-140). Повествование Геродота едва ли можно назвать историчным, поскольку оно содержит множество новеллистических и фольклорных элементов,2 однако первые свидетельства Геродота об основании династии Аргеадов стали фундаментом для дальнейшего развития легенды о появлении македонской царской династии в трудах античных авторов.3 В начале рассказа Геродот сообщает:
Из Аргоса бежали в Иллирийскую землю трое братьев - потомки Темена: Гаван, Аероп и Пердикка. Из Иллирии, перевалив через горы, братья прибыли в Верхнюю Македонию, в город Лебею. Там они поступили за плату на службу к царю. Старший сторожил коней, второй пас коров, а младший Пердикка ухаживал за мелким скотом. (Т Аруеод Ё'фиуоу Ёд ЧХХирюид тйу Т^цЁуои алоуоушу треТд аЗеХрео!, Гаиау^д те ха! АЁролод ха! ПерЗ!хх^д- Ёх Зё IXXupiwv йлер^акбутед Ёд т^у ауш МахеЗоуфу ал!хоуто ЁдЛе^а!^у л6к:у. Тубаита Зё Ёб^теиоу Ёл! щабй ларатй {ЗатХЁГ, о цёу 1,'ллоид уёцшу, о Зё ^оид, о Зё уештатод айтйу ПерЗ!хх^д та Хелта тйу лро^атшу -Hdt., VIII, 137).
Из всех братьев именно младший стал основателем династии. Исследователями уже было замечено, что похожую легенду Геродот передает и о скифах4:
Первым жителем этой еще необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена (я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждения). Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксаис, Арпоксаис и самый младший - Колаксаис (АуЗра уеуЁаба: лрйтоу ёу т^ у^ таит^ Ёоио^ Ёр^цш тй оиуоца е1уа: Тару!таоу тои Зё Тару:таои тоитои тойд тохЁад ХЁуоиот е1уа:, Ёцо! цёу ой лита ХЁуоутед, ХЁуоиот З' шу, Д!а те ха! ВориабЁуеод тои лотацои биуатЁра. ГЁуеод цёу тоюйтои З^ т:уод уеуЁаба: тоу Тару!таоу, тоитои Зё уеуЁаба: лаТЗад треТд, Л1л6^а'!у ха!
ApKo^aiv xai vswTaTov KoXa^aiv - Hdt., IV, 5). В рассказе о происхождении скифского царства также ключевой фигурой является самый младший брат, к которому перешло все царство. Кроме прочего, как и в случае с македонянами Геродот подчеркивает связь скифской династии с эллинами через греческих богов.
Подобные фольклорные мотивы о трех братьях являются довольно универсальными для индоевропейских народов. Тем не менее, схожесть двух легенд в одном источнике «Истории» Геродота может говорить о распространенности подобных сказаний в одно время у македонян и скифов. При этом мы не имеем свидетельств о прямых контактах скифов и македонян, однако о существовании связей между скифами и фракийцами нам известно.5 До вторжения персов на территорию Скифии фракийцы и скифы долгое время поддерживали мирные отношения.6 Уже с VI в. до н. э. в Истрии и в Тариверде присутствовала скифская керамика, которая к IV в. до н. э. появляется в Добрудже.7 К IV-III в. до н. э. наблюдается некое сходство в погребальной обстановке в могилах скифской и фракийской знати.8 Последнее, но не менее важное, это письменные свидетельства о контактах скифов и фракийцев. К примеру, Геродот сообщает о первом брачном союзе дочери одрисского царя Тереса I и скифского царя Ариапифа (Hdt., IV, 80). Данное событие обычно датируется 80-ми гг. V в. до н. э. как политический шаг одрисского царя для того, чтобы обезопасить себя от нападения скифов.9 Подобный политический акт был предпринят и со стороны скифов, когда Ариапиф женился на истриянке (Hdt., IV, 78). К середине V в. до н. э. относится эпизод со скифским царем Скилом, который искал убежище у фракийского царя Ситалка (Hdt., IV, 80). С пребыванием Скила во Фракии связывается находка золотого перстня Скила в Истрии, на котором греческими буквами выгравировано имя царя10. Существование двух схожих рассказов мы могли бы объяснить только предположением о том, что данная легенда о трех братьях могла быть распространена как на территории Скифии, так и Фракии, а впоследствии появится в Македонии. —
-
5 Вопрос о взаимоотношениях скифов и фракийцев не пользовался большой популярностью в историографии. Наиболее полный обзор данной темы представлен в работе А. И. Мелюковой (1979). По данной теме также см. Бруяко 2005; Braund 2015.
-
6 Мелюкова 1979,242.
-
7 Там же.
-
8 Там же, 243.
-
9 Блаватская 1952, 55. При этом А. Фол (1972) датирует данное событие концом VI - началом V вв. до н. э.
-
10 Виноградов 1980,105-106.
Еще одним подтверждение фракийского влияния на легенду, которую передает Геродот, служит рассказ о том, что царица города Лебеи, куда прибыли три брата, сама выпекала хлеб для Пердикки, и каждый раз из теста выходило лишь больше хлеба. Царь воспринял это как божественное знамение, которое не приведет ни к чему хорошему, и приказал покинуть братьям страну, однако те потребовали плату за проделанную ими работу. Царь же указал на солнце и назвал его платой. Пердикка ответил, что они принимают дар царя. Он очертил ножом, который носил с собой, на полу дома солнечное пятно. Затем он трижды зачерпнул себе за пазуху солнечного света из очерченного круга и удалился вместе с братьями (Hdt., VIII, 137).
Солнце является неким ключевым символом в рассказе Геродота, и как мы полагаем, указывает на фракийское влияние. Солярный культ, распространенный среди фракийских племен, имел глубокие корни и раннее происхождение, так как мы находим свидетельства о почитании солнца уже в эпохе поздней бронзы. Одним из самых ранних примеров является каменная плита из Разлога с изображением юноши напротив лодки с солнцем11. На монетах фракийских племен также довольно часто встречаются солярные знаки12. Геродот в своей «Истории» также упоминает фракийских божеств: «Богов фракийцы чтут только трех: Ареса, Диониса и Артемиду» (Hdt., V, 7). Античный историк в свойственной ему манере описывает религию варваров через эллинских богов для того, чтобы изложение было понятно греческому читателю. Тем не менее, исследователи предположили, что именно Дионис стал неким олицетворением солярного культа у фракийцев в греческой интерпретации.13 Справедливо отметил В. Гринволт, что безумие царя после слов Пердикки о плате в рассказе Геродота может еще раз отсылать нас именно к элементам дионисийского культа.14
В рассказе Геродота есть еще одно важное свидетельство, которое косвенно указывает на фракийское влияние - это упоминание Геродотом того, что младший брат Пердикка ухаживал за мелким скотом на службе у царя (та Хекта twv Kpo^aTwv - Hdt., VIII, 137). На первый взгляд, данное свидетельство кажется незначительным. Однако если мы сравним данные из последующей письменной традиции, то увидим, что упоминание Геродота впоследствии могло развиться в более детальное описание связи появления царской династии в Македонии с упоминанием мелкого скота.
Фукидид фактически вторит Геродоту и сообщает лишь то, что предками Аргеадов были Темениды, бежавшие из Аргоса: «Приморскую область (которую мы называем Македонией) впервые завоевали Александр, отец Пер-дикки, и его предки Тимениды, в древности прибывшие из Аргоса, и воцарились там». (Thue., II, 99 - пер. Г. А. Стратановского). Для нас более ценным является другой источник, а именно, постановка Еврипида «Архелай».15 Ар-хелай, сын Темена, был изгнан из Аргоса и направился к фракийскому царю, откуда, ведомый козами, прибыл в Македонию.16 Данная постановка не была исторична, и нет сомнений в том, что Архелай был лишь вымышленным персонажем Еврипида для того, чтобы угодить своему патрону - македонскому царю Архелаю, жившему в V в. до н. э.17 В контексте нашего исследования важно лишь упоминание о том, что Архелай прибыл в Македонию благодаря тому, что следовал за козами.
В более поздних источниках мы встречаем упоминание оракулов, которые были получены македонскими царями. Диодор сообщает, что первым правителем Македонии был Каран, однако его потомок Пердикка получил прорицание из Дельф, согласно которому ему необходимо было основать город в том месте, где он увидит коз (VII, fr. 16). В другом варианте данного оракула с идентичным содержанием в качестве его получателя фигурирует Каран (Sehol. in Clem. Alex. Protr., II, 11). У Юстина мы также встречаем еще одну подробную легенду об основании династии Аргеадов, где в качестве основателя династии фигурирует Каран, который прибыл в Македонию, следуя за стадом коз, и основал Македонское царство (Justin 7.1.7.). О Каране упоминают Плутарх (Alex., 2.1), а также Павсаний (9, 40). В. Гринволт, исследуя появления личности Карана в списке основателей династии Македонии, приходит к выводу о том, что легенда с данным персонажем была распространена в трудах более поздних авторов и преследовала цель - усилить политическое влияние македонского царского дома в IV в. до н. э. с помощью пересмотра списка македонских царей и включения туда персонажа с именем Каран, что на греческом xapavog «начальник, предводитель» звучало бы более убедительно.18 Для нас не столько важен сюжет о появлении нового царя как основателя династии Македонии, сколько дополнительного свидетельства о том, что основатель династии Аргеадов прибыл в Македонию, следуя за стадом коз. По-видимому, козы являлись неким символическим животным для македонян, поэтому фигурировали в рассказах о македонской династии. Неслучайно было отмечено, что название первой столицы Македонии города Эги (Atyat) этимологически связано с греческим словом «козы» (atye^).19 Впоследствии после перенесения столицы в Пеллу, Эги оставалась одним из религиозных центров в Македонии.20
Мы хотели бы обратиться к дошедшему до нас нумизматическому материалу для того, чтобы ответить на вопрос, почему именно козы могли фигурировать в легенде об основании македонской династии.
К отдельной группе македонских монет принадлежат так называемые статеры с изображениями коз.21 Вопрос об их происхождении до сих пор остается спорным. И. Своронас отвергал принадлежность монет к городу Эги, поскольку на них изображен козел (трауод), что этимологически не соотносится с названием города. Кроме прочего, он идентифицировал монограммы на монетах как подпись фракийского племени дерронов.22 Э. Бабелон датировал данные монеты временем Александра I и полагал, что монограммы - это лишь штампы ответственных лиц за чеканку монет.23 Некоторые исследователи выделяли несколько фракийских племен, как правило, проживающих близ серебряных рудников Пангея, которые могли чеканить подобные монеты.24 Существует точка зрения, что данные монеты происходят из города Галепсоса. При этом данный город был населен пи-ерийцами, фракийским племенем. Геродот указывает на то, что проживали пиерийцы близ горы Пангей и, по-видимому, имели доступ к золотым и серебряным рудникам (Hdt., VII, 112).25 Однозначного ответа на вопрос о четкой принадлежности данной группы монет до сих пор нет, и наиболее убедительной представляется точка зрения о том, что подобные монеты чеканились фракийскими племенами.26 Кроме прочего, монеты с изображением коз встречаются в других греческих городах, расположенных на территории Фракии, к примеру, Айнос, Абдера и Эгоспотамы. Датируются подобные монеты более поздним временем IV-III вв. до н. э. Иконография данных монет сильно отличается от изображений коз на так называемых
224 Истоки мифа о происхождении династии Аргеадов фрако-македонских монетах, тем не менее, может указывать на фракийское влияние на данных территориях.
Для того, чтобы объяснить подобную иконографию коз на фракомакедонских статерах, мы хотели бы снова обратиться к скифам. Существуют несколько типов фрако-македонских монет, различающихся по изображению деталей на аверсах и реверсах (Приложение 1). К примеру, монеты различаются по монограммам, присутствию на монетах изображения цветов, гранул и т. д.27 Однако иконография коз является практически идентичной. На фрако-македонских монетах коза изображается в движении с подогнутыми передними ногами, причем одна нога всегда немного вытянута вперед. Голова козы с прорисованными массивными рогами повернута назад, и приоткрыт рот.
Козы могли являться неким священным животным уже у фракийцев, а впоследствии перейти в македонскую традицию. Однако мы полагаем, что иконография фрако-македонских монет была заимствована у скифов или находилась под скифским влиянием. Д. С. Раевский, М. Н. Погребова рассматривали образ козла в скифском искусстве и в искусстве скифского пласта Зивие, отмечая сильное восточное влияние на складывание звериного стиля скифов.28 В качестве примеров были рассмотрены археологические находки из Келермесского и Ульского курганов (Приложение 2). Особенно ценным является находка из Келермеса: изображение козла фактически идентично изображению козла на фрако-македонских монетах. Голова повернута назад, прорисованы большие рога, приоткрыт рот. Различным является положение ног на скифском изображении, так как обе ноги согнуты, а также положение ушей. В Ульском кургане I и II были найдены практически идентичные изображения козлов с повернутой назад головой и согнутыми ногами.29 Пожалуй, наиболее интересным является изображение козла на рукоятке скифского меча из Мельгуновского клада (Приложение 3).30 Рядом с изображением козла располагается розетка, схожая с розетками, которые присутствуют на некоторых фрако-македонских монетах. Кроме прочего, рукоятка меча отделана по бокам золотыми пластинами с орнаментом из цветов и бутонов лотоса,31 которые также встречаются на монетах. Интересным примером может служить стилистическое изображение козла с открытым ртом и подогнутыми ногами, найденное между поселком
Зуя и селом Ароматное.32 Помимо подобных стилистических изображений в зверином стиле у скифов встречается множество упрощенных изображений коз. Уже в упомянутом Келермесском кургане был найден бронзовый котел с ручкой, завершающийся изображением головы козла или бронзовый котел с рельефными изображениями козлов на тулове.33 Схожесть изображения поз животных, поворота головы, прорисовки рог, рта, а также дополнительные детали и вставки на монетах, которые присутствуют на скифском материале, дают возможность предположить, что иконография фракийских монет могла находиться под скифским влиянием.
Ко времени Александра, как правило, относят несколько типов монет и выделяют монеты с пятью видами реверса и тремя видами аверса.34 На монетах Александра также встречаются изображения коз, однако оно сильно изменено по сравнению с предыдущими фрако-македонскими монетами (Приложение 4). Изображается либо половина туловища с головой, направленной вперед, либо повернутой назад, ноги в таком же положении как на фрако-македонских монетах. Помимо прочего, на аверсе монет изображен всадник на лошади с двумя копьями. Данное изображение схоже с иконографией монет биссалтов или оресков, на которых также присутствует человек с двумя копьями и лошадь,35 так называемый, охотник.36
Присутствие фракийской иконографии на монетах Александра можно объяснить внешнеполитическим вектором македонского царя. Александр расширяет границы Македонии, захватывая территории крестонов, биссалтов, мегдонов.37 Контроль фракийских серебряных рудников приводит к появлению македонских монет с сильным фракийским влиянием на их стоимость, вес и иконографию.38 Одновременно с процессом расширения государственных границ, Александр начинает укреплять отношения с греками, поэтому на монетах Александра появляются также элементы греческой иконографии, к примеру, греческий шлем, морда льва,39 инициалы Александра греческими буквами.
В отличие от фракийского изображения всадника с двумя копьями, которое идентично изображению на монетах Александра,40 иконография монет с козами при Александре меняется и отходит от канонического на фракомакедонских монетах. Сходства мы можем проследить только в расположении туловища козы, ног и головы, которая в некоторых случаях также повернута назад. Нам кажется, что новое изображение коз на монетах Александра должно было отвечать появившейся легенде о греческом происхождении дома Аргеадов и связывать легитимность власти Аргеадов с первой столицей Македонии и священным центром, городом Эги, куда козы привели первого македонского царя.41
Из повествования Геродота мы знаем, что Александр всячески стремился продемонстрировать свое греческое происхождение. Если отец Александра Аминта I находился в полном подчинении персам, то при Александре македоняне начинают сотрудничать с греками (Hdt., V, 18-21). Геродот сообщает, что для допуска к участию в Олимпийских играх, Александру пришлось доказать эллинам свое аргосское происхождение. После чего Александр принял участие в состязании в беге и пришел к финишу одновременно с победителем (Hdt., V, 22). Античный историк не описывает, как Александр доказывал свое греческое происхождение. Однако если это событие имело место быть, то нам кажется логичным предположить, что именно легенда о трех братьях, потомках Темена, могла стать основой доказательной базы Александра.
Изменение внешнеполитического вектора развития Македонии и ориентация на тесные союзные отношения с эллинами должны были привести к изменениям во внутренней политике Александра и формированию инструментов пропаганды для легитимации власти Аргеадов. Легенда о происхождении македонян от Темена должна была стать главным подтверждением греческого происхождения царского македонского дома и увеличить политические возможности представителей Аргеадов. Изучение первоначальной версии легенды у Геродота и ее последующего развития показывает, что на формирование рассказа о греческом происхождении македонян повлияли контакты Македонии с фракийскими племенами. Наибольшее фракийское влияние мы можем проследить в религиозной и культурной сфере македонян. Также изучение нумизматического материала в сравнении с письменными источниками дает возможность сделать ряд уточнений о том, что на фракийскую иконографию могла повлиять скифская культура, а впоследствии также отразиться на македонских монетах.
Список литературы Истоки формирования мифа о происхождении македонской династии Аргеадов
- Алексеев, А. Ю., Галанина, Л. К. (2010) Древности скифской эпохи из Прикубанья, Античное наследие Кубани. Т. 3. Москва, 170-198.
- Артамонов, М. И. (1966) Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага.
- Блаватская, Т. В. (1952) Западнопонтийские города в VII-I вв. до н. э. Москва.
- Борза, Ю. (2013) История античной Македонии (до Александра Великого). Санкт-Петербург.
- Бруяко, И. В. (2005) Ранние кочевники в Европе (X-V вв. до н.э.). Кишинев.
- Виноградов, Ю. Г. (1980) Перстень царя Скила, Советская археология. № 3, 92–109.
- Галанина, Л. К. (2006) Скифские древности Северного Кавказа в собрании Эрмитажа. Санкт-Петербург.
- Доватур, А. И. (1957) Повествовательный и научный стиль Геродота. Ленинград. Зимовец, Р. В., Скорый, С. А. (2014) Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев.
- Мелюкова, А. И. (1979) Скифия и фракийский мир. Москва.
- Погребова, М. Н., Раевский, Д. С. (1992) Ранние скифы и древний Восток. Москва.
- Руденко, С. И. (1961) Искусство Алтая и Передней Азии (середина I тысячелетия до н. э.). Москва.
- Фол, А. (1972) Политическа история на траките (края на второто хилядолетие – до края на пети век преди новата ера). София. Юрукова, Й. (1992) Монетите на тракийските племена и владетели. София.
- Braund, D. (2015) “Thracians and Scythians: Tensions, Interactions and Osmosis,” I. Valeva, E. Nankov, D. Graninger, ed. A Companion to Ancient Thrace. Oxford, 352–366.
- Greenwalt, W. (1985) “The Introduction of Caranus into the Argead King List,” Greek, Roman, and Byzantine Studies 26, 43–49.
- Greenwalt, W. (1994) “A Solar Dionysus and Argead Legitimacy,” Ancient World 25, 3–9.
- Hammond, N. G. L., Griffith, G. T. (1979) A History of Macedonia. Vol. II. Oxford.
- Harder, A. (1985) Euripides’ Kresphontes and Archelaos: Introduction, Text and Commentary. Leiden.
- Hatzopoulos, M. B. (2020) Ancient Macedonia. Berlin / Boston.
- Heinrichs, J., Müller, S. (2008) “Ein persisches Statussymbol auf Münzen Alexanders I. von Makedonien,“ Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 167, 283–309.
- Jacobson, E. (1995) The Art of the Scythians. The Interpretation of Cultures at the Edge of the Hellenic World. Leiden / New York / Koln.
- Kraay, C. M. (1976) Archaic and Classical Greek Coins. London.
- Kremydi, S. (2011) “Coinage and Finance,” Robin J. Lane Fox, ed. A Companion to Ancient Macedonia. Oxford, 159–179.
- Lorber, C. C. (2000) “The goats of Aigai,” S. M. Hurter, C. Arnold-Biucchi, ed. Pour Denyse: Divertissements numismatiques. Bern, 113–133.
- Rabadjiev, K. (2015) “Religion,” I. Valeva, E. Nankov, D. Graninger, ed. A Companion to Ancient Thrace. Oxford, 443–457.
- Raymond, D. (1953) Macedonian Regal Coinage to 413 B. C. New York.
- Sprawski, S. (2010) “The Early Temenid Kings to Alexander I,” J. Roisman, I. Worthington, ed. A Companion to Ancient Macedonia. Oxford, 127–145.
- Psôma, S. (2003) « Les «boucs» de la Grèce du Nord. Problèmes d'attribution », Revue numismatique 159, 227–242.
- Tačeva, M. (1992) “On the Problems of the Coinages of Alexander I Sparadokos and the So-Called Thracian-Macedonian Tribes,” Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte 41, 1, 58–74.
- Troncoso, V. A. (2018) “The Animal Types on the Argead Coinage, Wilderness and Macedonia,” T. Howe, F. Pownall, ed. Ancient Macedonians in the Greek and Roman Sources. From History to Historiography. London, 137–162.