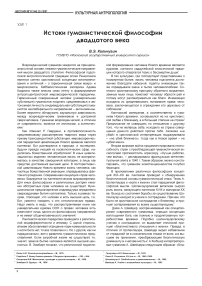Истоки гуманистической философии двадцатого века
Автор: Кольчугин В.Э.
Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts
Рубрика: Культурная антропология
Статья в выпуске: 2 т.1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140208884
IDR: 140208884 | УДК: 1
Текст статьи Истоки гуманистической философии двадцатого века
ГОУВПО «Московский государственный университет сервиса»
Возрожденческий гуманизм зиждился на принципиально иной основе, нежели гуманистические направления мысли двадцатого столетия. Философской подоплекой антропологической традиции эпохи Ренессанса являлся синтез христианской концепции вочеловечи-вания и античной – о гармонической связи макро- и микрокосмоса. Каббалистическая эзотерика Адама Кадмона также внесла свою лепту в формирование антропоцентристской мировоззренческой парадигмы. Гармоничный совершенный человек (универсальная субстанция) гуманистов позднего средневековья и автономная личность (индивидуальная субстанция) гуманистов неолиберального направления – антиномичны. Более вероятно обнаружить каузальную зависимость между возрожденческим гуманизмом и доктриной сверхчеловека. Гуманизм возрожденческий, в отличие от современного, являлся не этическим, а эстетичес-ким. 1
Как отмечал Р. Гвардини, в противоположность средневековому рассмотрению тварного мира через призму трансцендентной субстанции, мировоззренческой парадигмой цивилизации Нового времени являлся пантеизм. Бог растворялся в природе, и последняя, будучи прежде низшей из космологических сфер, наделялась божественной атрибутикой. 2 В иных цивилизационных моделях человеческая жизнь не воспринималась в качестве самоценной категории, а лишь как средство достижения высшей цели. В постхристианской цивилизации Нового времени жизнь человека, как частицы божественной эманации, оправдывалась фактом его рождения. Современная концепция «прав человека» базируется на пантеистическом мировоззрении. Для иных философских и религиозных доктрин никаких абстрактных прав человека не существует. Функциональное предначертание индивидуума определено сверхзадачами бытия коллектива. Только в рамках теории, гласящей, что человек и есть высшая цель, т.е. Бог, уместно говорить о его онтологических правах. Надо иметь в виду, что распространяемая ныне как универсальная идиома ООН о правах человека есть компонент лишь одного из философских направлений и не имеет общечеловеческого значения. 3
Пантеистическая парадигма приводила к религиозной индифферентности и атеизму. С одной стороны, атеизм обусловливал отрицание норм коммунальности («если Бога нет, то все позволено»). Но с другой, как ни парадоксально, вел к развитию гуманистических представлений. Если загробной жизни не существует, то, значит, земное бытие человека является высшей ценностью. В. Зомбарт полагал, что религиозной подопле- кой формирования человека Нового времени является иудаизм, согласно саддукейской классической традиции которого отвергался тезис о бессмертии души.4
В тех культурах, где господствует представление о посмертном бытие, жизнь человека подчинена достижению благодати небесной. Адепты инквизиции также оправдывали казни и пытки человеколюбием. Согласно христианскому принципу обратного воздаяния, земные муки лишь помогают человеку обрести рай и потому могут рассматриваться как благо. Инквизиция исходила из средневекового понимания права человека, заключающегося в ограждении его церковью от соблазнов. 5
Кантовский императив, а соответственно и гуманизм Нового времени, основывался не на христианской любви к ближнему, а в большей степени на страхе. 6 Предписание не совершать по отношению к другому того, что не желаешь себе, исходило из страха совершения данного действия против тебя. Аксиома «не убий» в христианской интерпретации подразумевала – «не убий ближнего», тогда как в Новое время – не «убий меня».
Вторая мировая война продемонстрировала неспособность стран с преобладающей гуманистической аксиологией противостоять агрессору. «Лучше рабство, чем война», – декларировала французская интеллектуальная элита в 1940 г. Таким образом, можно констатировать, что гуманизм экзистенционалистов погубил Францию.
В преломлении различных философских концепций ХIХ–ХХ вв. пантеизм приводил к обнаружению биологической основы гуманистической этики. Тезис А. Шопенгауэра о «воле к жизни» стал парадигмой философской мысли. Шопенгауэровский витализм сыграл роль моста, связующего пантеизм ХVIII и эмпиризм ХХ вв. Выход из состояния борьбы за существование Шопенгауэр находил в учении о сострадании. Причем, это было не христианское сострадание к ближнему, а принцип сопереживания ко всему существующему. 7
Даже А. Швейцер, воспринимаемый как олицетворение современного гуманизма, отрицал концепцию воплощения бога, как ложную и продиктованную потребностями времени. Подобно шопенгауэровскому учению о сострадании, он выдвигает этический принцип «благочестивого отношения к жизни». Правда, в отличие от Шопенгауэра, Швейцер видел избавление от страданий не в сознательном отказе от воли, а в высшем ее признании, преобразующим биологическую доминанту в «человечность» 8 . А Хюбшер интерпретировал гуманизм А. Швейцера следующим образом: «Бла-
Лосев А.Ф. Эстетика возрождения. – М., 1979..
Гвардини Р. Конец Нового времени // Вопросы философии. – 199. – №4.
Острецов В.М. Масонство, культура и русская история. – М., 1998.
Зомбарт В. Буржуа. – М., 1994.
Григулевич И.Р. Инквизиция. – М., 1976.
Кант И. Сочинение. В 6-ти т. – М., 1963–1966.
-
7 Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1982.
-
8 Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. – М., 1993.
гоговение к жизни – это означает не только этические поступки и соответственное отношение к сочеловекам с точки зрения доброго порядка и счастья в человеческом обществе, но также и столь же безусловно, чувство ответственности за все живое. Хорошо поддерживать и взращивать жизнь, доводя ее до высшей ценности. Плохо уничтожать жизнь, вредить ей, ее стеснять. Это его основные мысли, и в злые послевоенные годы они выразительно говорили в защиту гибнущего чувства гуманности» 1 .
Философская перспектива двадцатого века открывается новым учением о человеке, трактующим его исходя из естественно-исторической точки зрения. Монументальные духовно-исторические модели антропологии, как, к примеру, версия В. Дильтея, остались в прошлом столетии. 2 Исключение представляет, пожалуй, лишь экзистенциальная историософия, как проекция «бунтующего человека» А. Камю. 3
Уже на рубеже ХIХ–ХХ вв. новая философско-антропологическая проблематика выступает под разнообразными естественно-научными версиями: характерологии, философии индивидуальности, психологии личности, различных вариантов прагматизма. Ф.К. Шиллер трактовал гуманизм в качестве находящейся в рамках философии прагматизма «персонального идеализма». Он считал возможным отождествлять гуманизм с прагматизмом на том основании, что наша познавательная деятельность по своим основным характеристикам должна быть человечной, т.к. мотивируется и обусловливается человеческими потребнос-тями. 4
Но биологическая парадигма философии гуманизма приводила в конечном итоге к его отрицанию. Как, к примеру, бихевиористское расщепление духовной субстанции, так и фрейдистское обращение к подсознательной сфере обусловливали отрицание личнос-ти. 5 Гуманистический подход вне культа личности терял свою актуальность. Вместе с тем, переход из сферы морального гуманизма к биологическому уровню также приводил к устранению дихотомии добра и зла. Доктрина «сверхчеловека» с апелляцией к героике архаических эпох формировалась как антитеза прагматическому (= буржуазному) гуманизму. 6
Согласно марксистской интерпретации, социально-экономической основой «буржуазного гуманизма» или индивидуализма является частная собственность. Догмат о неприкосновенности собственности коррелировался с правосознанием неприкосновенности личности и являлся важнейшей его составляющей. Таким образом, гуманизм нового времени был сориентирован на человека-собственника. В рамках социального утопизма двадцатого века, псевдо-гуманизму прежних формаций противопоставлялся подлинный гуманизм «всесторонне-развитой личности». Подлинный гуманизм достигался посредством преодоления «отчужде- ния», т.е. создания условий бытия, соответствующих сущности человека. Еще в ранних произведениях классиками марксизма была высказана мысль, что коммунистический гуманизм есть примирение Высокого Ренессанса и Позднего Средневековья.7
Наряду с социальной основой гуманизма, в виде парадигмы индивидуальной собственности, двадцатый век создал производственно-экономическую базу его развития. Концентрация производства эпохи индустриального общества предполагала генезис коллективистской идеологии, о чем свидетельствует феномен марксизма, воспринятого в ортодоксальном варианте именно в стране с наиболее масштабным сосредоточением производственных мощностей в крупнейших урбанистических центрах. Постиндустриальное время, или эпоха «новых кочевников», качественной характеристикой которого является индивидуализация труда, создание минимализированных предприятий, ориентирующихся на индивидуалистическую аксиологию. Процессы гуманизации и гуманитаризации обусловливали развитие друг друга. Признание суверенности индивидуума, а не коллектива, в качестве высшей ценности приводит к гуманистическому подходу в сфере этики. 8
Вместе с тем двадцатый век обнаружил кризис гуманистической этики. Кантовский императив в Германии и толстовское непротивление в России оказались не в состоянии противостоять идеологии силы, в разных формах ее этико-философского проявления. Характерное для двадцатого века ассоциативное единство понятий гуманизм и индивидуализм, в конечном итоге, должно было привести к их расколу. Последовательно проведенный принцип индивидуалистического эгоцентризма приводит к отрицанию императива гуманного отношения к окружающим, предполагающего определенные альтруистические установки. Так, согласно мнению представителя американской философской школы «гуманистической этики» У. Файта, добро не универсальная, а персональная для каждого человека категория. Отсюда он утверждал, что человек не должен уважать интересы других людей, если те не способны сами постоять за них. 9
Другой разлом обнаружился между прежде связанными воедино понятиями «гуманизм» и «свобода». Среди русских философов консервативного толка популярностью пользовались рассуждения о логическом и историческом самоотрицании свободы. 10 Расширение рамок свободы у одного индивидуума (хотя рамки есть уже признак несвободы) ведет к лишению ее у другого, а следовательно, – к негуманному подходу по отношению к последнему. Предпочтения отдаются индивидуализму и свободе, но не гуманности. Данная тенденция представляет опасный симптом, т.к. устраняется предохраняющая общество от самоуничтожения категория, каковой первоначально являлась религиозность, а затем – гуманность.
Хюбшер А. Мыслители нашего времени. – М., 1994. – С. 113.
Риккерт Г. Философия жизни. – М., 1922.
Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.
Хюбшер А. Мыслители нашего времени. – С. 35.
Сумерки богов. – М., 1990.
Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. – М., 1993.
Маркс К. Энгельс Ф. Сочинение. В 50-ти т. – М., 1955–1981.
Bell D. The coming of postindustrial society. – N.Y., 1973.
Современные направления западной этики. – М., 1986.
Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М., 1994.
Список литературы Истоки гуманистической философии двадцатого века
- Лосев А.Ф. Эстетика возрождения. -М., 1979..
- Григулевич И.Р. Инквизиция. -М., 1976.
- Гвардини Р. Конец Нового времени//Вопросы философии. -199. -№4.
- Кант И. Сочинение. В 6-ти т. -М., 1963-1966.
- Острецов В.М. Масонство, культура и русская история. -М., 1998.
- Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. -М., 1982.
- Зомбарт В. Буржуа. -М., 1994.
- Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. -М., 1993.
- Хюбшер А. Мыслители нашего времени. -М., 1994. -С. 113.
- Риккерт Г. Философия жизни. -М., 1922.
- Камю А. Бунтующий человек. -М., 1990.
- Хюбшер А. Мыслители нашего времени. -С. 35.
- Сумерки богов. -М., 1990.
- Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ. -М., 1993.
- Маркс К. Энгельс Ф. Сочинение. В 50-ти т. -М., 1955-1981.
- Bell D. The coming of postindustrial society. -N.Y., 1973.
- Современные направления западной этики. -М., 1986.
- Бердяев Н.А. Философия свободного духа. -М., 1994.