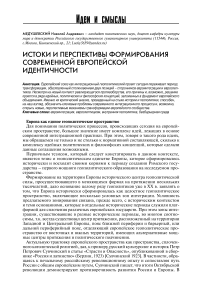Истоки и перспективы формирования современной европейской идентичности
Автор: Медушевский Николай Андреевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 12, 2016 года.
Бесплатный доступ
Европейский союз как интеграционный геополитический проект сегодня переживает период трансформации, обусловленный столкновением двух позиций - позиции сторонников евроинтеграции и евроскептиков. Несмотря на новый контекст реализующегося противоборства, его причины и, возможно, решение кроются в ряде идейных, политических и философских концепций, заложенных в фундамент европейского объединения. Именно их критический анализ, проведенный на стыке истории и геополитики, способен, на наш взгляд, обозначить ключевые проблемы современного интеграционного процесса и, возможно, открыть новые, перспективные механизмы трансформации европейского сообщества.
Евроинтеграция, евроскептицизм, внутренняя геополитика, безбарьерная среда
Короткий адрес: https://sciup.org/170168245
IDR: 170168245
Текст научной статьи Истоки и перспективы формирования современной европейской идентичности
Европа как единое геополитическое пространство
Для понимания политических процессов, происходящих сегодня на европейском пространстве, большое значение имеет комплекс идей, лежащих в основе современной интеграционной практики. При этом, говоря о такого рода идеях, мы обращаемся не только и не столько к нормативной составляющей, сколько к комплексу идейных политических и философских концепций, которые сделали данные соглашения возможными.
Первичным тезисом, который следует констатировать в данном контексте, является тезис о геополитическом единстве Европы, которое сформировалось исторически и восходит своими корнями к периоду создания Римского государства – первого мощного геополитического образования на исследуемом пространстве.
Формирование на территории Европы исторического центра геополитической силы, просуществовавшего в меняющихся формах на протяжении нескольких тысячелетий, дало основание целому ряду геополитиков уже в ХХ в. заявлять о том, что Европа исторически сформировалась как целостное геополитическое пространство, включающее несколько условных зон интеграции. Условность предлагаемого зонирования связана, прежде всего, с историческим контекстом и теми основаниями, которые в отдельные исторические периоды служили платформой для сплочения различных европейских государств. При этом зоны интеграции, существовавшие в разные исторические периоды, во многом соотносимы, т.к. всегда существовал центр притяжения, расположенный на территории Западной и Центральной Европы, пояс ближней периферии и барьерный, или дальний периферийный пояс, отделяющий европейское геополитическое пространство от восточных и южных территорий, имеющих альтернативные мощные центры притяжения и политического подчинения.
Актуальную трактовку европейского пространства как пространства, сплоченного католической религией, дал, к примеру, русский культуролог и историк Петр Петрович Сувчинский в статье «Страсти и Опасность», опубликованной в сборнике «Россия и латинство» (Берлин, 1923) [Сувчинский 1923]. В частности, обращаясь к печальному российскому революционному опыту и сопоставляя путь России с общим европейским путем, Сувчинский пишет, что итоги Октябрьской революции демонстрируют противоречивость развития России и Европы. В том числе он указывает на то, что Россия «таит в себе иной смысл и иное свершение» [Сувчинский 1923]. Иной смысл и иное свершение, в интерпретации Сувчинского, связаны с другой исходной культурно-религиозной традицией, которая на время была соотнесена с европейской, но затем через революцию вернулась на свой собственный путь. В то же время Европа, объединенная католической традицией, исторически не меняла свой путь, лишь корректируя его за счет вовлечения в свой состав территорий с православной верой и преимущественно славянским населением [Сувчинский 1923].
Сборник «Россия и латинство», редактором которого выступил известный русский геополитик Петр Савицкий, содержит и множество других трактовок самостоятельного геополитического значения Европы без России и территорий, входивших в состав Российской империи. Показательны статьи самого Петра Савицкого, а также таких широко известных в России и за рубежом авторов, как Георгий Вернадский («Соединение церквей» в исторической действительности), князь Н.С. Трубецкой (Соблазны Единения), Г.В. Флоровский (Два Завета) и др.
При этом религиозная и культурная идентичность Европы, во многом благодаря которым это геополитическое пространство вошло в ХХ в. единым фронтом, постепенно начала изменятся, разделяясь на военную, экономическую и идеологическую составляющие. Во многом данное расширение происходило достаточно болезненно, т.к. требовало изменения основ национальных идентичностей (следствием стала в т.ч. Вторая мировая война). Итогом формирования новой идентичности стал образ Европы как относительно гомогенного образования, имеющего общие многосторонние ценности и несколько двигателей развития, между которыми существует фундаментальный баланс. Об этом, к примеру, в начале ХХ в. пишет австрийский ученый Рихард Николаус Куденхове-Калерги. Так, уже в 1921 г. Р. Куденхове-Калерги публикует статью «Чехи и немцы», в которой впервые обращается к идее панъевропеизма. Концепция Куденхове-Калерги обращает на себя внимание не случайно, т.к. в ее основе заложена именно идея объединения государств на основе близости идеалов культуры у формирующих их наций. Основным таким идеалом Куденхове-Калерги видел демократическую культуру, находящую свое выражение в индивидуализме и свободе выбора. При этом панъевропеизм был представлен не как идея, а как комплексная идеология, основа которой была заключена в манифесте «Пан-Европа» (1923) [Куденхове-Калерги 2006].
О единстве Европы и едином будущем европейского развития говорят и многие современные авторы. В критическом ключе об этом, к примеру, пишет представитель американской школы геополитики Збигнев Бжезинский в работе «Великая шахматная доска» [Бжезинский 2010].
Американский автор говорит о том, что в Европе сложилось два центра силы в лице Франции и Германии. При этом каждый из этих центров недостаточно силен для гегемонии, что продемонстрировало историческое противостояние. Это же относится и к другим мощным государствам Европы, которые потеряли лидирующие позиции в более ранние исторические периоды, например Испании.
Противостояние, существующее между Германией и Францией, в значительной степени ограничено их общим историческим противостоянием с Великобританией, также являющейся центром силы в Европе, но при этом развивающейся по совершенно иной политической стратегии, в которой место регионального лидера бескомпромиссно отводится исключительно Великобритании.
Современные геополитики выделяют и менее значимые центры силы, в числе которых все чаще называется Польша [Дымшиц 2012], претендующая на лидерство среди стран Восточной Европы.
Политическая нестабильность как стимул к интеграции
Наличие многих потенциальных лидеров исторически представляло угрозу стабильному развитию и неоднократно приводило к масштабным конфликтам, в числе которых Столетняя война, наполеоновские походы, а также обе мировые войны. Каждый из подобных конфликтов, равно как и сотни меньших столкновений в европейской истории, был направлен на насильственную интеграцию иных обществ, народов, культур через подавление и истребление. В то же время полицентризм и рост военного потенциала отдельных государств повлек за собой интенсификацию переговорного процесса и, как следствие, позитивную интеграцию, т.е. интеграцию, основанную на взаимной выгоде, которая набирала все большую силу в контексте увеличения ущерба от конфликтного, прежде всего военного, взаимодействия.
Как следствие, две сосуществующие и интенсивные интеграционные тенденции сформировали современную геополитическую карту Европы, которая, как и более ранние модели, характеризуется геополитической зональностью, но отличается всевозрастающей взаимозависимостью всех ее субъектов.
Данное обстоятельство представляется принципиальным вследствие единства контекста европейского цивилизационного развития и преемственности культурной традиции, которая находит свое выражение в таких общеевропейских явлениях, как распространение христианской религии, Возрождение, Реформация, гуманизм, просвещение, а также в единстве трансформации общеевропейского социально-политического контекста, представленного актуализацией в отдельных социальных группах или обществе в целом различных прав, свобод и политических взглядов.
В данной связи знаковой представляется геополитическая концепция, предложенная французским географом и политологом Ивом Лакостом, который сформулировал модель прикладной, или «внутренней геополитики»1, соответствующей быстро меняющимся вызовам конца ХХ в., когда были написаны его основные работы [Lacoste 1986].
«Внутренняя геополитика» как способ преодоления исторической зональности
Лакост уходит от макроконцепций геополитики, в числе которых идеология «морского могущества» [Lacoste 2006] или «континенталистская школа» [Дугин 2000]. В качестве объекта рассмотрения он выделяет регионально значимые проблемы и, в частности, вопрос соотношения территорий и политических симпатий проживающих на них людей.
Концепция Лакоста опирается на труды его соотечественника Андре Зигфрида, первым обратившегося к рассмотрению зависимости территориальных факторов (в т.ч. качество почв) и электоральных предпочтений2 [Дугин 2000]. На базе подхода Андре Зигфрида Ив Лакост создал собственную научную школу, в основе деятельности которой было заложено положение о функциональном значении геополитики, в т.ч. применительно к системам информационного обмена и коммуникационного взаимодействия участников социальных и политических отношений.
Лакост и некоторые его последователи в качестве ключевого детерминанта внутренней геополитики рассматривали категорию имиджа, или информационного образа, который в ХХ в. стал «синтетической формой», объединяющей реальные характеристики и приписываемые им значения. Во многом категорией внутренней геополитики имидж, по мнению Лакоста, сделали средства массовой информации, в числе которых им особо выделяется телевидение (хотя с современных позиций туда же следует отнести и Интернет).
Геополитическая концепция Ива Лакоста, ввиду ее прикладного значения, интересна не сама по себе, а в контексте реализуемых на региональном уровне трансформаций, в числе которых, несомненно, можно рассматривать и всю совокупность интеграционных процессов, а также формы их детерминирования, например распространение «культуры толерантности».
При этом концепции Лакоста и его последователей содержат еще ряд актуальных для нашего исследования положений. В первую очередь значимой является предложенная им трактовка нации. Нация является, по словам Лакоста, «квинтэссенцией геополитических представлений потому, что опирается на территорию, на государство и на идею независимости, которая подразумевает соперничество как на внутреннем, так и на международном политических уровнях».
Ив Лакост выражает сожаление в связи с тем, что концепция нации монополизирована националистами и отсутствует ее позитивное восприятие. В связи с этим он пишет следующее: «Я боюсь, что ухудшение постколониальных вопросов во Франции вызовет значительный рост крайне правых настроений и обеспечит их популярность в средствах массовой информации и, как следствие, на выборах» [A propos de… 2010]. В книге, состоящей из интервью с Лоро Паскаль, Лакост говорит, что, по его мнению, «иммиграция не станет геополитической проблемой, если нет соперничества держав за территории. По словам Ива Лакоста, этот вопрос постколониальной истории может быть решен с помощью «реализации различных уровней пространственного анализа, так как если гражданин усвоит видение геополитики, в соответствии с которым территория – это общее достояние, а все люди имеют общие черты, то иммиграция перестанет стигматизироваться». Однако на практике данное восприятие во Франции и в других европейских странах не достигнуто и, как следствие, существующее геополитическое мировоззрение приводит к росту агрессии со стороны мигрантов. Враждебность, которую они проявляют по отношению к Франции, привела к беспорядкам в 1980-х и особенно в 2005 г. [A propos de… 2010].
В определенном смысле Лакост видит своей целью дискредитацию мифа о цивилизационной миссии Запада [Lacoste 1976], с защитой которой он связывает подавляющее число конфликтов в мире и в самой Европе. Путь преодоления исторически обусловленной конфликтогенности Лакост видит в «восстановлении географической карты» и указывает на то, что «география» этимологически означает «ничья земля». Под этим подразумевается необходимость вернуть территории народам, проживающим на них, изъяв их из политического противостояния властных элит [Retour de… 2011].
Представления Лакоста о нации неразрывно связаны с представлением о границах, существующих между государствами. По сути, он констатирует важность границ для современного разделенного мира, но указывает на их условность в «правильном» неполитическом (и, можно сказать, «толерантном») мире.
Исходя из трактовки нации как широкого, едва ли не цивилизационного образования, можно сделать предположение, что процесс европейской интеграции не только является закономерным, но и реализуется в соответствии с определенными характерными для данного макрорегиона принципами, одним из ключевых в числе которых на современном этапе является культура толерантности, которая фактически и представляет решение обозначенной Ивом Лакостом задачи преодоления традиции колониального доминирования, а также традиции внутриевропейского патернализма и империализма, хотя следует заметить, что сам Лакост напрямую не пишет о толерантности.
Следуя логике одного из последователей Лакоста Мишеля Фуше, представ- ленной в работе «Фронты и границы» [Foucher 1988], можно констатировать, что толерантность, распространяемая в современной Европе, нацелена на приобщение европейских этнических сообществ к модели позитивной интеграции и изменение традиционного восприятия границ как формы принудительного разделения. В данной связи показательно, что Фуше рассматривает границы в трех плоскостях: реальной, символической и воображаемой. «Прерывистость в реальной плоскости – это пространственный предел действия суверенитета в его специфических формах, граница может быть открытой, полуоткрытой и закрытой. Символическая прерывистость связана с принадлежностью к различным политическим сообществам, существующим на соответствующих территориях. Воображаемая прерывистость имеет отношение к таким понятиям, как “другие”, соседи, друзья, враги, т.е. к связям с самим собой, со своей историей; со своими созидательными и разрушительными мифами» [Foucher 1988].
В итоге задача, которая стоит перед европейским обществом, сводится к преодолению границ, сложившихся исторически, в пользу гомогенного пространства и безбарьерной среды. Отталкиваясь от работ Лакоста, можно заключить, что данная, безусловно, цивилизационная задача лежит в русле предложенной этим автором концепции «внутренней геополитики» и связана с необходимостью сконструировать новую созидательную мифологию, объектом которой станет не нация-государство или нация-этнос, а макронация или нация-цивилизация.
Вывод
Сегодня на территории Европейского союза уже идет процесс создания новой «нации». В его основе заложен принцип геополитического единства европейских государств, объединенных общим историческим и культурным наследием, гуманистическими ценностями и правовой культурой. При этом очевидно, что данный процесс нелинеен и развивается в тесном противостоянии с евроскептицизмом, находящим свое выражение в политических практиках национально ориентированных партий, в числе которых, к примеру, «Национальный фронт» во Франции или партия «Фидес» в Венгрии. Успехи и длительность интеграционного процесса, тем не менее, оставляют открытым вопрос о его качестве и равноценности интеграционных тенденций на всей территории условного «европейского национального пространства». Но, несмотря на противостояние с евроскептиками, позиция которых подкреплена рядом экономико-социальных кризисов, сотрясающих ЕС начиная с 2008 г., становится все более очевидным, что единая Европа никогда уже не сможет вернуться к той политической карте, которая существовала в доинтеграционный период. Скорее, сегодня речь идет о пересмотре интеграционной модели в сторону реализма, и здесь новое значение приобретают уже ставшие классическими интеграционные концепции. Именно с переосмыслением работ европейских классиков геополитики, в числе которых упомянутые нами Лакост, Фуше и др., в перспективе связано раскрытие нового будущего единой Европы.
Также важно, что речь идет не о направленном развитии от меньшей толерантности к большей, от хаоса – к территориальному порядку, а о борьбе двух начал: коллективного, компромиссного, основанного на позитивной интеграции, и индивидуалистического, лидерского начала [Шкудунова 2011], нацеленного на успех старого национального государства, вокруг которого уже может происходить интеграция более слабых стран-сателлитов. Именно в этой борьбе «интеграционной системы» и индивидуальной политической воли, на наш взгляд, и будет проходить перспективное перерождение проекта единой Европы.
Список литературы Истоки и перспективы формирования современной европейской идентичности
- Бжезинский З. 2010. Великая шахматная доска: американское превосходство и его геостратегические императивы (пер. с англ. О.Ю. Уральской). М.: Международные отношения. 254 с
- Дымшиц Н. С. 2012. Польша и новые независимые государства. -Вестник МГИМО-Университета. № 2. С. 276-282
- Дугин А. 2000. Основы геополитики. М.: АРКТОГЕЯ-центр. 928 с
- Куденхове-Калерги Р.Н. 2006. Пан-Европа (отв. ред. Е. Айзпурвит). М.: Вита Планетаре. 120 с
- Сувчинский П.П. 1923. Страсти и Опасность. -Россия и латинство (под ред. П. Савицкого). Берлин: Книгоиздательство «Геликон». С. 16-39
- Шкудунова Ю.В. 2011. Индивидуальное и коллективное начала в формировании гражданского общества. -Омский научный вестник. № 4-99. С. 92-95
- A propos de Yves Lacoste, entretiens avec Pascal Lorot, Yves Lacoste. La géopolitique et le géographe. 2010. Paris: Choiseul Editions. URL: http://blog.passion-histoire.net/?p=9156
- Foucher M. 1988. Fronts et Frontières, un tour du monde géopolitique. P.: Fayard. 690 р
- Lacoste Y. 1976. La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre (ed. Maspero). Paris. 187 р
- Lacoste Y. 1986. Dictionnaire géopolitique des Etats. Paris: Flammarion. 677 p
- Lacoste Y. 2006. Géopolitique: la longue histoire d’aujour d’hui. Paris: Larousse
- Retour de la géopolitique et histoire du concept: l'apport d'Yves Lacoste. -VOULOIR. Archives EROE. 24.08.2011. URL: http://vouloir.hautetfort.com/archive/2011/08/24/lacoste.html