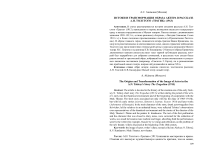Истоки и трансформация образа актера в рассказе А. Н. Толстого "Трагик" (1913)
Автор: Акимова Анна Сергеевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература
Статья в выпуске: 4 (43), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается история создания рассказа А.Н. Толстого «Трагик» (1913), написанного в период вхождения писателя в театральную среду и начала сотрудничества с Малым театром. Рассказ связан с дневниковыми записями 1905-1913 гг., а также ранними («Актриса», «Поездка Симонова. Сезон 1910 г.») и бо-лее поздними произведениями писателя («Приключения Растегина»). В образе главного героя, спившегося актера-трагика Ивана Кривичева, покинутого родственниками в неотапливаемом доме, нашли отражение наблюдения Толстого над представителями театральной среды и рассказы режиссера Малого театра И.С. Платона и художника К.В. Кандаурова. О близости образа Кривичева дневниковым записям свидетельствует текст первой публикации рассказа, который был переработан для собрания сочинений, в результате чего создан более реалистичный и трагический образ, вобравший не только впечатления от увиденных писателем постановок (например, «Гамлета» Г. Крэга), но и размышления над проблемой нового театра, широко обсуждавшейся в начале ХХ в.
Образ актера, дневник писателя, текстология рассказа, а.н. толстой, к.в. кандауров, малый театр, новый театр
Короткий адрес: https://sciup.org/14914645
IDR: 14914645
Текст научной статьи Истоки и трансформация образа актера в рассказе А. Н. Толстого "Трагик" (1913)
Рассказ А.Н. Толстого «Трагик» (1913) называли мастерским и ярким. Отмечая его высокую художественную ценность критика, тем не менее, задавалась вопросом о реальности образов, «существуют ли в жизни такие люди?»1. Многочисленные дневниковые записи писателя в период 1905-1913 гг. красноречиво свидетельствуют о наличии конкретных прототипов образа главного героя рассказа, спившегося провинциального актера, покинутого родственниками в неотапливаемом доме.
Рассказ был написан в апреле 1913 г. во время пребывания Толстого в Париже, на что указывает проставленные автором в конце первой публикации в газете «Русские ведомости» место и дата «Париж, апрель»2. В его основе - случай, произошедший с И.С. Платоном, режиссером Малого театра, записанный Толстым в дневнике в период между 3 декабря 1912 -13 февраля 1913 г:
«Вечер у Кругликовых
Рассказ Платона о том, как он приехал в подмосковное именье, в старинный дом; была натоплена (открыта) одна комната, в ней жил бывший актер, брат хозяина. По стенам бут<афорское> оружие, костюмы. На окошке бутыли. Он полупьяный, с ним деревенская девка. Днем он катается на коньках по льду в зале.
Был выпущен из театр<альной> школы, не попал в императорский <театр>. Уехал в провинцию, все промотал. Спился»3.
Действие рассказа также происходит в неотапливаемом усадебном доме, за которым присматривает родственник хозяев, промотавшийся актер-трагик, Иван Степанович Кривичев (в первой публикации - Хлюстов). В угловой комнате, которую он топит книжками, заблудившийся путешественник видит «ведерные бутылки с наливкой» на подоконниках (ср. в записи: «На окошке бутыли»), на стенах - «один над другим <...> пестрые костюмы, латы и плащи...» (ср.: «По стенам бут<афорское> оружие, костюмы»). Яркая деталь рассказа Платона, также использованная Толстым, - каток в доме. «Хотите на коньках покататься? - предлагает Кривичев. - Внизу в зале я отличный каток устроил. Сам воду носил -поливал паркет; покатаешься, потом из окошка прямо в сад и на речку». Однако образ Машеньки, присматривающей за домом со стороны Бабыче-вых, в «Трагике» решен совершенно иначе: в милой и простой, с «измученным лицом» и прекрасными «еще не наглядевшимися на свет глазами» девушке трудно увидеть «деревенскую девку». Скорее в ней угадывается героиня другой дневниковой записи (<1911>), в которой говорится о живущей в доме художника В.П. Белкина паре - «паршивеньком актере» и его красавице-спутнице: «На Венькином корабле живет паршивенький актер и с ним девушка нечеловеческой красоты. По ночам она кричит на весь коридор и будит соседей, которые выходят в коридор кое в чем и переговариваются»4. В рассказе свидетелем ссор Кривичева и Машеньки становится кухарка. Ее слова приводит ямщик: «Рассказывала: шибко она боится у них жить... Вчера, говорит, барин за барышней с ножом по всему дому бегал...»5. [Здесь и далее в тексте статьи название указанного издания сокращено и набрано курсивом.]
При работе над образом главного героя были использованы и другие наблюдения Толстого над представителями театральной среды, нашедшие отражение в его дневниковых записях. Одна из первых, помещенная под датой 1905 г, озаглавлена «Актер» и содержит портрет обманутого антрепренером и освистанного публикой спившегося актера, который выпрашивает деньги: «Мал, волоса вихрем, лицо кувшином. Сел и, глядя на пол, заговорил наизусть. Антрепренер жулик. В сапожке 4 р. 50 к. сбору, у официантов взял залогу, чтобы расплатиться за зал»6. При описании Кри-вичева автор также отмечает небольшой рост («потный, красный, маленький»), «бритое его оплывшее лицо», в чем, вероятно, могло подразумеваться сходство с кувшином и взъерошенные полуседые волосы. Другая запись («Старый актер с тиком, в морщинах, полон портсигар мундштуков»7) могла быть использована в изображении душевных переживаний героя через его жесты: «Он закрыл глаза, вздрогнул, словно от озноба» или «Иван Степанович сморщился, засопел...».
Образ актера провинциального театра мог быть связан и с актером, режиссером и антрепренером Г.Ф. Сарматовым (наст, фамилия Беляев), встреча с которым нашла отражение на страницах дневника: «Сарматов говорит мне: “И простите за совет: юродствовать нужно, хватить по башкам; костюм себе завести эдакий. Без рекламы нельзя-с. Я 15 лет на сцене, а меня 10 лет воши ели”»8.
Дневниковые записи Толстого периода 1908 - начала 1913 гг. свидетельствуют не только о все возрастающем интересе к миру театра, но и о расширении круга знакомых театральных деятелей. Толстой общался с режиссерами (И.С. Платон, Н.П. Евреинов, А.Я. Таиров, В.И. Немирович-Данченко, С.В. Носов, Ф.Ф. Комиссаржевский), актерами (Г.Ф. Сарматов (Беляев), Ю.Л. Ракитин (Ионин), М.А. Бецкий (Кобецкий), А.А. Мгебров, В.В. Чекан, О.А. Правдин), художниками, сотрудничавшими с театрами (С.Ю. Судейкин, А.В. Лентулов), многие из которых стояли у истоков нового театра.
В начале века произошел «внезапный, ни с чем не сравнимый рост значения и места театра в культурной жизни эпохи»9. Алексей Толстой, как и многие деятели культуры своего времени, не остался в стороне от дискуссии о задачах драматического театра и о новом зрителе. Еще в студенческие годы Толстым была написана заметка [«О пьесе М. Горького “На дне”»]. Его стихотворения «Любил тебя в грозе под вечер...», «Темнеет степь и нет прохлады...» (1909. № 5. С. 15), сказка «Дочь колдуна и заколдованный королевич» (1909. № 6. С. 6-7), а также рассказ «Разбойник» (1909. № 7. С. 32) публиковались в «Журнале театра художественно-литературного общества» во второй половине сезона 1908/1909 г, а в 1912 г. в журнале «Маски» (№ 2) появилась статья Толстого «Об идеальном зрителе. (По некоторому не указанному здесь поводу)». В форме диалога Режиссера и Автора начинающий писатель ставит проблему ответственности театра перед зрителем, развивая, таким образом, идею нового народного театра, сформулированную А. Луначарским в статье «Социализм и искусство» и А.А. Блоком в финале своей статьи «О театре» (обе статьи вошли в книгу: «Театр». Книга о новом театре. СПб.: Шиповник, 1908).
В Кн-во 1 рассказ был посвящен близким друзьям Анне Владимировне Кандауровой (урожд. Попова, 1877-1962) и Константину Васильевичу Кандаурову (1865-1930), с которыми Толстой и С.И. Дымшиц познакомились весной 1911 г. в Коктебеле в доме М. Волошина. «Очень было занятно с Толстым и Максом», - писал Кандауров 25 мая 1911 г.10. В начале 1912 г. Толстые, приехавшие из Петербурга в Москву, остановились сначала у Кандауровых, которые помогли им найти квартиру на Новинском бульваре.
О Кандауровых Толстой писал в дневнике: «Вообще описать Анну Владимировну. Припомнить вечеринку у них. Как она меняла банты. Как краснела под всеобщими взглядами. Как Костя, сидя на углу стола, скалился во весь рот, вертя цепочку, вдруг хохотал деревянным смехом»11. Из Парижа Толстой писал Кандауровым: «Милые Костя и Аня, что делается в Москве? Боюсь - отлучился, а вы там что-нибудь напутаете <.. > В Париже время течет спокойно, радостно, хорошо. Ждем вас сюда непременно»12.
Художник К.В. Кандауров, заведовавший осветительной частью в Малом театре, поддержал идею постановки пьесы Толстого «Насильники», «известив» управляющего труппой театра, актера и драматурга, А.Ю. Южина-Сумбатова перед чтением автором пьесы. Об этом периоде и о роли Кандаурова в судьбе пьесы Толстой вспоминал позднее в статье «Моя первая пьеса»: «Помог мне мой друг, Константин Васильевич Кандауров, который с незапамятных времен заведовал в Малом театре солнцем и луной. Грозой и бурей. Как дух стихий он сидел под сценой и не раз приглашал меня в свою будочку, откуда я следил за спектаклем. Кроме того, он был живым архивом театра»13. Позднее в воспоминаниях второй жены Кандаурова, художницы Ю.Л. Оболенской, также возникнет образ хранителя театральных историй: «Москвичи любили его рассказы о старом театре и актерах. Передаваемые им с необычайной непосредственностью и брызжущим весельем.. ,»14.
Текст первой публикации в «Русских ведомостях» для Кн-во (1) был значительно переработан. Сокращенное пространное вступление к газетной публикации, в котором описывалось заброшенное имение Чувашки и разгоревшийся из-за него конфликт между двумя семействами - Бабычевыми и Кривичевыми, было использовано Толстым для изложения конфликта с Бабычевыми. В Кн-во (1) он дан в пересказе актера-неудачника Ивана Степановича Кривичева у портрета предка: вместо «... и вдруг глаза его потухли, словно выцвели, у губ легли складки. - Я всю эту рухлядь сожгу, - так пусть они и знают, - окончил он и опять потащил меня из последней залы в коридорчик, где вдруг шепнул...» в Кн-во (1) автор добавил поясняющие суть спора слова: «“У нас теперь тяжба с Бабычевыми” и потащил через залу в коридорчик, где шепнул...».
Основное направление правки было связано с характеристикой главно- го героя рассказа «Трагик» - провинциального актера Ивана Степановича Хлюстова, в Кн-во (1) - Кривичева. Начиная с описания внешности героя, автор работает над выразительностью и точностью формулировок: рассказчик при взгляде на актера отмечает бритое оплывшее лицо и черные круглые глаза, характеристика «словно воткнувшиеся в меня» и «глаза эти я где-то видел, только на другом лице» в Кн-во (1) отсутствует.
Сокращаются театральные движения и жесты героя - подошел большими шагами, ступил на согнутых ногах к подмосткам. В результате работы над текстом первой публикации создается менее театральный и искусственный образ, но более реалистичный и трагический.
В Кн-во (1) благодаря сокращению ряда деталей и судьба актера представляется иначе. Неожиданно для себя и еще до приезда в Чувашки он осознает, что бездарен и решает оставить сцену. Фраза «Двадцать два года срамился... Все ждал... вот-вот заиграю» сокращается, а «срамился» заменяется на «играл»: «Двадцать два года играл...». И далее: «А знаете, почему сорвалось?», где безличное «сорвалось» меняется на осмысленное «оставил сцену». Кроме того, дается иная трактовка его пребывания в уединении: из безвольно оставленного родственниками для охраны дома («Вот сейчас только в этом проклятом дому догадался: сначала полюбить надо, а потом изображать любовь...») он превращается в сознательно покинувшего сцену («Вот и решился сначала полюбить, а потом изображать любовь...»). Его попытка декламировать перед гостем на «самосильно» устроенных подмостках заканчивается провалом: «Офелия, иди в монастырь! Иди в монастырь. Не отпирая дверей... А если он, со зверской лаской, ворвется в девичью обитель, ты шаль свяжи на девственной груди и тайно в узел спрячь иглу». Кривичев старается припомнить слова Гамлета, обращенные к Офелии в 1 сцене 3 акта, цитируя трагедию Шекспира «Гамлет» в переводе Н.А. Полевого, который утвердился в репертуаре русских театров. 16 декабря 1907 г. в Общедоступном театре (Лиговский театр), организованном П.П. Гайдебуровым и Н.Ф. Скарской в Народном доме графини С.В. Паниной в Петербурге состоялась премьера «Гамлета» в переводе Полевого в постановке А.Я. Таирова (в роли Гамлета Гайдебу-ров, Лаэрт - Таиров). Частично переделанный Гайдебуровым спектакль шел до 1910 г, затем - в сезоне 1910/11 г. - значительно переработанный А.П. Зоновым. Фактов, подтверждающих знакомство Толстого с этой постановкой, не обнаружено, но он видел более поздний спектакль «Гамлет» (в переводе А.П. Кронеберга) в постановке Г. Крэга, К.С. Станиславского и Л.А. Сулержицкого в МХТ, премьера которого состоялась 23 декабря 1911 г.15 Их продолжает фраза из стихотворения А.А. Блока «Девушке (Ты перед ним, что стебель гибкий...)» (1907): «Ты перед ним, что стебель гибкий, / Он пред тобой, что лютый зверь <...>/ А если он ворвется силой, / За дверью стань и стереги: / Успеешь - в горнице немилой / Сухие стены подожги. / А если близок час позорный, / Ты повернись лицом к углу, / Свяжи узлом платок свой черный / Ив черный узел спрячь иглу»16. Блоковское стихотворение в контексте размышлений актера-неудачника об актерстве и сам образ трагика, путающего Гамлета с героем-любовни-ком, современникам Толстого могли напомнить знаменитую статью поэта 1908 г. «О театре». В ней выведен «актер, у которого не осталось за душой ничего, кроме биения здоровым кулаком в хриплую грудь», превращающий «принца Гамлета в грустного красавчика.. ,»17.
В первой публикации в словах Кривичева звучит надежда на возрождение и возвращение на сцену (сокращенные впоследствии: «...дам спектакль. Пресса сверху донизу затрещит»), и даже слова «Забыл... Все забыл <...> Я - плохой актер» не воспринимаются как приговор, который выносит сам себе актер в тексте Кн-во (1); «Забыл... Все перепутал <...> Какая досада!..».
Значительной переработке подверглась финальная сцена рассказа. После слов Кривичева «Замолчал, замолчал» следовала его просьба к гостю никому не рассказывать об их с Машенькой совместной жизни («Только вы никому об этом не говорите. По положению она должна быть ведьма и шпион... А то родные мои узнают, - что тогда будем делать?..») и скорый отъезд гостя, которому «представлялись актер и худая девушка, сидящие у памятного самовара, глядя на свечу». Для Кн-во (1) была дописана сцена в комнате Машеньки («Иван Степаныч притих совсем. ... Не будите его»), пронизанная жалостью к несчастному трагику. Последние слова ямщика также были изменены: «Барин, говорит, у нас - трагик... Это что-то мудреное. ..» на сочувственное «Барин, говорит, у них раньше человеком был, а теперь трагик...».
В пересказе ямщика и в названии рассказа в целом ироничная интерпретация слов А. Луначарского в статье «Социализм и искусство»: «Трагик подымается до философской концепции жизни, иначе он не может быть трагиком. Ибо только философски подымая зрителя над частным фактом, давая заглянуть через него, как через узорное окно в полутьму всежизни - он может ужасом и скорбью ковать готовые к жизненной борьбе души, давать и воодушевляющее утешение, очищение»18. По мнению критика, осознание трагичности существования должно повыситься, что породит «в человеке творческую тоску, глубокую, мечтательную, в даль устремленную меланхолию»19. С другой стороны, в «Журнале театра художественно-литературного общества» (1909. № 9-10. С. 18-19), с которым сотрудничал и Толстой, была опубликована ироничная статья «“То be” (Из фрагментов о Шекспире)», посвященная интерпретации провинциальными, захолустными трагиками образа Гамлета, преисполненными ложного пафоса и читающими знаменитый монолог с неизменным канделябром в руках.
Рассказ «Трагик», с одной стороны, становится развитием темы впервые затронутой в рассказе «Актриса» («Два друга»), о возвращении провинциальной актрисы к мужу в уездный городишко, и в неоконченном рассказе «Поездка Симонова. Сезон 1910 года» (<1912>), написанном по воспоминаниям друга семьи Кандауровых, актрисы передвижных театров Валентины Владимировны Успенской, в кругу друзей прозванной «Валет-114
ка». С другой стороны, некоторые мотивы «Трагика» отзовутся в более поздних произведениях писателя: например, название усадьбы, Чувашки и мотив узнавания в хозяине усадьбы прежнего знакомого, который был в первой публикации рассказа «Трагик» («Русские ведомости»), будут использованы при создании повести «Приключения Растегина» (1913) в фамилии героя повести, Семена Семеновича Чувашева, в котором Расте-гин признал «старого своего приятеля». А детские воспоминания о саде, занесенном снегом, покрытых инеем окнах и пустынном доме, впервые использованные при описании усадьбы Чувашки, найдут отражение в повести «Детство Никиты» в описании заброшенных летних комнат с хрустальными люстрами и покрытыми пылью шкафами, сквозь стекла которых «поблескивали переплеты старинных книг».
В рассказе «Трагик» нашли отражение наблюдения Толстого разных лет над представителями театральной среды. Зафиксированные в дневнике, они были использованы при создании образа главного героя. Наблюдения и впечатления, записанные в дневнике, были дополнены рассказами о закулисной жизни театра «пугателя и ламповщика» Малого театра Кандаурова. «Здесь, - писал Толстой в статье «Моя первая пьеса», - я впервые узнал и полюбил театр, - его традиции, будни и праздник его кулис, его двойную жизнь, его трагический венец из золоченого картона...»20. Эти слова перекликаются с воспоминаниями повествователя в «Трагике» о первой встрече с провинциальным актером Кривичевым: «И сейчас же я вспомнил ... коротенькую фигуру короля в картонной короне...», что свидетельствует о реальности образа главного героя и искреннем интересе писателя к изображенным в рассказе событиях и характерах.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-18-02709) и в ИМПИ РАН.
Список литературы Истоки и трансформация образа актера в рассказе А. Н. Толстого "Трагик" (1913)
- А.Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985. С. 286.
- Блок А.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 2. Кн. 2. М., 1997. С. 93-94.