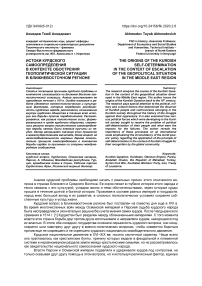Истоки курдского самоопределения в контексте обострения геополитической ситуации в ближневосточном регионе
Автор: Ахмедов Теюб Ахмедович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена причинам курдской проблемы в контексте сложившейся на Ближнем Востоке геополитической ситуации. Автор прослеживает ее зарождение начиная с XVI в. Особое внимание в работе уделяется военно-политическим и культурным факторам, которые определяли разобщенность курдского народа, разногласия, возникавшие внутри курдского общества в течение всей истории его борьбы против поработителей. Рассматривается, как разные политические силы, формировавшиеся в среде курдского общества, стремились решить вопрос политического самоопределения народа, каковы были главные причины их неудач. Автор раскрывает значение этих процессов в межгосударственном масштабе, делая акцент на непоследовательности мировых держав относительно принципа самоопределения в контексте борьбы курдов за признание со стороны международного сообщества.
Курдский вопрос, курдистан, османская империя, персия, а. оджалан, мехабадская республика, турция, гражданская война в сирии, рабочая партия курдистана, иран, лозаннский мирный договор
Короткий адрес: https://sciup.org/149134108
IDR: 149134108 | УДК: 94/99(5-012) | DOI: 10.24158/fik.2020.2.6
Текст научной статьи Истоки курдского самоопределения в контексте обострения геополитической ситуации в ближневосточном регионе
Анализ курдской проблемы необходимо начать с реальных причин этого этнического вопроса в странах Ближнего и Среднего Востока. Ее корни лежат в глубине истории этого народа и тесно связаны с его культурой, укладом жизни и теми обстоятельствами, через которые курды прошли в течение долгой и богатой истории. Проживая в составе разных империй и государств, народ внес большой вклад в их развитие, в сложных геополитических условиях сохраняя собственные культуру и уклад жизни.
Курдский вопрос в Ближневосточном регионе был поставлен на повестку дня еще в XVI в. Во время многочисленных войн между Османской империей и Персией судьба курдского народа была несправедливо и окончательно решена без учета мнения самих курдов. После Чалдыранского сражения в 1514 г. [1] Курдистан был разделен между обозначенными империями. С того момента власти этих стран в борьбе друг против друга использовали и направляли курдов, находящихся под их властью. В итоге оба соседних государства осознали серьезность курдского вопроса, они неоднократно шли навстречу друг другу в военно-политических вопросах, чтобы совместно бороться против еще не созревшего и не окрепшего курдского национально-освободительного движения.
Курдское национальное движение в XVI–XIX вв. носило хаотичный характер. Чаще всего оно трактовалось как крестьянские бунты, причину которых видели в феодальной и племенной системе и неравномерном разделе земли между крестьянскими семьями, но не рассматривалось как свидетельство национального самосознания курдского народа.
Власти Персии и Османской империи подавляли и удерживали курдов под контролем, не только оказывая друг другу помощь в этом вопросе, но и используя религиозный фактор, единую мусульманскую веру, для влияния на курдскую феодальную верхушку. Представители последней, не всегда образованные и разумные, получая определенную выгоду от властей, разделивших Курдистан, прислуживали им. Направляемые империями, под властью которых они оказались, курдские племена воевали чаще друг с другом, чем с общим внешним соперником. Основной причиной внутрикурдских противоречий становились религиозные разногласия и племенной строй. Курды считаются умеренно религиозными людьми. Большинство из них – мусульмане-сунниты, но имеются мусульмане-шииты, алавиты и т. д., а также были и есть поклонники зороастризма, езидизма, иудаизма [2].
Если рассматривать ислам как идеологическую монополию большинства курдов, то менее распространенные религии должны были обогатить их культуру. Однако на деле религиозные различия в курдском обществе нанесли этому народу даже больше вреда, чем империи и страны, которые разделили земли Курдистана между собой. Религиозное разнообразие часто приводило к местным конфликтам, которыми пользовались власти Османской империи и Персии. Имперские режимы, опиравшиеся в основном на религию, пытались применять ее не только в повседневной жизни, но и в политических целях, с далеко идущими планами. Стравливая курдов, власти этих стран отвлекали их от отстаивания политических требований.
Османские и персидские правители часто использовали для борьбы с курдами диалектные различия в языке, преподнося их как факт существования не единого народа, а этносов, состоящих из разнородных, хотя и родственных, племен. Такой политической идеологии империи и страны Ближнего и Среднего Востока придерживались даже после того, как в XIX–XX вв. лингвистами на научной основе неоднократно было доказано, что по языку это единый сложившийся народ со своими историей, культурой и видением мира, а диалектные различия не являются поводом признать курдов разными народами [3, с. 26–28], как немцев в Германии или армян в Армении, несмотря на диалекты в их языках.
В ХХ в., после очередного раздела Курдистана между четырьмя странами – Турцией, Ираном, Ираком и Сирией, власти каждой из них предпринимали шаги по ассимиляции курдов, в первую очередь на основе единой религии [4, с. 29–34]. Руководство этих государств внушало национальным меньшинствам, что на первое место необходимо ставить религию, а не этническую принадлежность, а отстаивание своей национальной идентичности – это происки внешних врагов, которые стремятся разделить людей одной мусульманской веры, чтобы ими было проще управлять.
Курды c XIX в. поэтапно ставили национальные интересы выше религиозных и племенных. В этой борьбе они надеялись на помощь соседей, потенциальных союзников – таких как Российская империя, Греция, а из порабощенных народов – на болгар, сербов, армян и т. д. Однако каждый раз им приходилось разочаровываться в них, особенно в России, которая в судьбоносные исторические моменты использовала курдов как политическую силу против Османской империи, а затем, после подписания мирного соглашения с османами, забывала о союзниках-курдах, освобождая болгар, сербов, армян [5, с. 14–18]. Власти России объясняли это так: данные народы – наши единоверцы-христиане и они более сплоченные, чем вы, курды, люди, исповедующие ту же религию, что и ваши поработители, неужели вы сами не сможете с ними договориться?
Современное положение многомиллионный народ обрел после окончания Первой мировой войны в 1918 г. в результате подписания соглашений Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, а конкретно – после Лозаннского мирного договора 1923 г. [6]. За 3 года до этого, в 1920-м, по Севрскому мирному договору курдам, наравне с армянами и арабами, было обещано создание курдского национального государства [7]. Однако во время переговоров в Лозанне лидер Турции М. Кемаль и его соратники обманным путем переиграли решения этого договора, тем самым курды не получили не только независимость, но даже автономию, которую им гарантировали турецкие власти. Представитель Турции в переговорах, полукровка И. Инёню, сказал: «Вы мне, курду, хотите что-то отдать? Я здесь, в Лозанне, отстаиваю интересы не Турции, а курдов» [8, с. 216–234]. Тем не менее на конференции он не отстаивал интересы курдов, а скорее продвигал личную политическую карьеру в новообразованной Турецкой Республике.
Таким образом, рождение современной Турции необходимо рассматривать в связи с глобальными устремлениями национализма в условиях капитализма в начале ХХ в. и реалиями самого кемализма по отношению к курдскому народу. Его дальновидная политика и устремление заключались в том, чтобы во что бы то ни стало сохранить Турцию вместе с курдскими землями, даже если ради этого придется лукавить перед мировым сообществом и немногочисленной курдской элитой внутри страны. В итоге М. Кемаль для своего времени удачно решил эту задачу за счет судьбы курдов. Однако он не мог заглянуть на несколько десятилетий вперед и не рассчитывал, что этим сиюминутным решением обрекает Турцию на большой конфликт с курдами в будущем.
В течение первой половины ХХ в. турецкое государство на основании неразумных решений своего руководства потопило в крови несколько плохо организованных курдских национально- освободительных восстаний. Общественно-политические силы курдов отчаянно сопротивлялись, не имея внешней поддержки. В такой же обстановке проходило становление курдских политических сил и в других частях разделенного Большого Курдистана. Только в 70-е гг. ХХ в., после многих жертв, курды в Ираке получили ограниченную автономию [9]. Тем не менее политические партии Южного (Иракского) Курдистана, Демократическая партия Курдистана (ДПК) и Патриотический союз Курдистана (ПСК) вместо того, чтобы обустроить свой регион и создать из него полноценное государственное образование в составе Ирака, начали враждовать друг с другом - не без участия соседних стран, в которых жили и боролись такие же курды. В политических разногласиях между ними в том или ином виде прошла вторая половина ХХ в., и они продолжаются в Курдистане и сегодня, в XXI в., что наносит огромный ущерб курдскому единству в его борьбе. Этот народ по-прежнему разделен на четыре части, и ни одна страна, разделившая его, не признает за ним никаких всеобъемлющих и полноценных прав.
В ХХ в. положение курдов в Восточном (Иранском) Курдистане было не лучше, чем в других частях Большого Курдистана. Как и в соседних государствах, в Иране жестоко преследовались курдские политические организации. В 1946 г. иранские власти потопили в крови молодую курдскую Мехабадскую республику [10]. Однако в отличие от Турции в Иране курдский язык не был запрещен. Турецкие власти открыто отрицали существование курдов как нации, во всех конституциях устанавливалось, что в стране проживают только турки, в уголовном законодательстве было предусмотрено наказание за «курдизм». Иранские власти не запрещали курдский язык, но, признавая курдов родственным по происхождению и религии народом, они считали, что на этом основании курды не имеют права на национально-территориальное образование. После исламской революции в 1979 г. в Иранском Курдистане около 10 лет шла партизанская война между бойцами Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК) и центральной властью [11]. В конце 80-х гг. ХХ в. ДПИК перешла к мирному урегулированию конфликта с иранскими властями, но к началу XXI в., не получив ожидаемого результата, снова перешла к вооруженной борьбе. Следует отметить, что к этому времени в Иранском Курдистане появились иные военнополитические силы, в частности Партия свободной жизни Курдистана (ПЖАК), которая также отстаивает интересы многомиллионного курского народа в Иране военно-политическим путем. Прокурдские силы здесь традиционно враждуют друг с другом, и эти разногласия мешают достичь желаемого политического результата в данной части разделенного Курдистана.
В 70-е гг. ХХ в. в Северном (Турецком) Курдистане появилась новая политическая сила, именуемая Рабочей партией Курдистана (РПК). Возникновение данной организации было требованием времени. Это общественно-политическое объединение курдов с момента возникновения имело иные цели, чем прежние разрозненные политические силы курдов. Оно, во-первых, объявило себя партией не отдельной части, а всего разделенного Большого Курдистана [12], во-вторых, поставило перед собой задачу военно-политическим путем создать независимый Курдистан и начало активно распространять свою повестку среди курдского населения.
Если до выхода РПК на политическую арену от возражений против политики отрицания существования курдского народа и истребления культурной самобытности курдов можно было отмахиваться, как от обыденного явления, то позиция Рабочей партии была воспринята как шокирующая угроза: этого не должно было быть, но это происходило. Только такое устрашение достаточно убедительно показало, что курдское национально-освободительное движение действует в верном направлении и путь, на который оно вступило, обернулся благом для курдов не только в Турции, но и во всех остальных частях разделенного Большого Курдистана.
Идеология РПК развивалась параллельно с процессами, происходящими на Ближнем и Среднем Востоке и в Турции. В тот период, учитывая кризисы и проблемы, с которыми тогда сталкивались турецкие власти, курдский вопрос в стране можно было решить только путем вооруженной борьбы [13, с. 26].
На первом этапе борьба РПК шла на основе программы и идеологии организации. Однако после ареста основателя и лидера партии А. Оджалана в 1999 г. и суда над ним в программу было внедрено много нереализуемого и противоречившего первоначальным идеям курского освободительного движения, в частности утопические теории А. Оджалана о «демократическом федерализме». В рамках этих концепций Ближний Восток можно обустроить как безгосудар-ственный регион мира и все народы, населяющие эту территорию, могут равноправно сосуществовать и развиваться в экономическом, политическом и культурном отношениях.
Необходимо отметить, что А. Оджалан в начале деятельности партии допустил несколько грубых и непростительных ошибок. Во-первых, он начал демонстративно выступать против США, союзников Турции по НАТО, не осознавая, что тем самым настраивает против себя и курдского движения в целом великую державу. В то время необходимо было вести дипломатические игры с
Вашингтоном, а не враждовать. Во-вторых, он критиковал «сионистский режим» в Израиле, выступая не против евреев как таковых, а против властей Израиля. Эти непоправимые ошибки он совершил под определенным давлением. Например, против США он действовал по совету властей СССР, от которых РПК получала помощь, а Соединенные Штаты тогда были серьезным политическим противником Советского Союза. Как мы уже отмечали, против Израиля он выступал под влиянием тогдашнего сирийского режима, когда жил в Дамаске и тренировал своих бойцов в Ливане в долине Бекаа, которая в то время контролировалась сирийскими военными [14].
После ареста А. Оджалана в 1999 г. новые лидеры РПК наладили отношения с Израилем, а с США стали неофициально сотрудничать, в частности в борьбе с религиозными фанатиками после начала гражданской войны в Сирии в 2011 г. Однако из-за союзнических обязательств перед Турцией, а также из-за ошибок прежнего руководства партии США не только внесли РПК в список террористических организаций, но по-прежнему, по крайней мере при официальных встречах с турецкими властями, негативно отзываются о Рабочей партии и ее бойцах и не хотят исключать ее из этого списка [15]. Сама РПК повсюду демонстрирует, что соблюдает международное гуманитарное право и военные конвенции.
В ходе гражданской войны в Сирии с 2011 г. курды внесли огромный вклад в борьбу с международным терроризмом. Однако мировым сообществом эти усилия не учитываются. По-прежнему необходимость союзничества с Анкарой, главным врагом курдов и политическим противником России, а ранее - Советского Союза, перевешивает чашу весов в пользу Турции, а не проживающего в Западном (Сирийском) Курдистане многострадального народа, который в рамках единой и демократической Сирии желает реализовать право на самоопределение. На прогрессивные действия курдов турецкие власти с молчаливого согласия мирового сообщества отвечают жесткими военными действиями, уничтожают мирное курдское население. Турецкие власти в условиях бурлящего Ближнего Востока оправдывают свои действия тем, что борются против «террористической» организации РПК.
В ответ на незначительную по масштабам поддержку Вашингтоном курдских военных сил в Сирии Турция начинает угрожать союзникам выходом из НАТО и закупкой не американского оружия, а российского. Тем самым она показывает, что без турецких наземных сил, в случае конфликта с Россией, западным странам будет гораздо сложнее, чем вместе с ними. Этим Анкара вынуждает США, Германию, Великобританию и другие государства если не полностью отказаться от помощи вооруженным курдским ополченцам, то хотя бы не оказывать им политическую поддержку в признании их прав в Сирии. Как всегда, в судьбоносный момент для региона героический курдский народ выступил в нужное время и принес жертвы, но не за национальные интересы, а за чужие экономические и политические выгоды. В конфликте с Турцией, как и ранее, курды должны сами в неравных условиях один на один с Анкарой бороться без помощи международных ведомств. При оказании аналогичной поддержки другим народам в приобретении независимости ни одна международная организация и страна мира никогда не ставила принцип свободы самоопределения наций ниже суверенитета государств, от которых они отделялись, примеры этого - отделение Эритреи от Эфиопии, Косова от Сербии, Южного Судана от основной части Судана и другие аналогичные ситуации.
В самой Турции с 1990 г. с курдами ведутся игры в кошки-мышки. С одной стороны, курдов больше не называют горными турками, запрет на использование курдского языка в публичных местах снят. Хотя с момента установления в Турции республиканской формы правления в 1920-х гг. устные и письменные запреты в самой жесткой форме применялись в отношении курдов и всего Курдистана. Задействуя вкупе с физическими наказаниями программу глубочайшей ассимиляции, власти стремились запретить или совершенно уничтожить все, связанное с курдами и Курдистаном, либо нейтрализовать курдский фактор путем полного его растворения в горниле официальной турецкой националистической идеологии. Как многие группы, выступающие против этой политики, так и полулегальные курдские силы, считающие себя частью турецкой политической элиты, но отстаивающие интересы своего народа в Турции, должны во все голоса говорить о проблеме языка в стране.
В условиях глобализации в 90-е гг. ХХ в. впервые за весь республиканский период в Турции возник шанс на демократической основе решить проблемы курдов, поскольку США и ЕС во многих вопросах дистанцировались от Турции и требовали от Анкары урегулирования курдского вопроса [16, с. 76–122]. В ответ турецкие власти, как и ранее, обвиняли всех во вмешательстве во внутренние дела их страны, утверждая, что у них нет курдской проблемы, а те ошибочные решения, которые были приняты прежней властью в 60-70-е гг. ХХ в., давно отменены. В республике есть политические партии, отстаивающие на уровне Великого национального собрания Турции интересы курдов. Однако об их преследовании официальными лицами ни слова не говорилось, а существующие частные курдские школы часто закрывались под предлогом борьбы с распространением в них идеологии «террористической» организации [17]. На деле руководство по-прежнему приравнивало разговор на курдском языке в государственных учреждениях к терроризму и жестко преследовало. Политических, общественных деятелей или простых жителей, желающих говорить на родном курдском языке, турецкие власти мгновенно причисляют к сочувствующим «террористической» РПК. Следовательно, запрет снят, но по-прежнему общаться на курдском люди не имеют права. На бытовом уровне это возможно, поскольку невозможно проследить за каждым из 25–30 миллионов курдских граждан страны. Однако потребность официально говорить и изучать курдский язык на академическом уровне негласно остается под запретом. Соответственно, об учебных заведениях, телевидении, культурных учреждениях и судопроизводстве на курдском языке речи не идет.
Таким образом, истоки курдского вопроса в ходе истории курдского народа видятся не только в собственных ошибках курдов и их близорукости, но и в мировой системе, в которой они жили и живут, в тех ценностях, которые окружают не только курдов, но и все народы, населяющие земной шар. Развитие элементов современной демократии в противовес захватнической и глобализационной деятельности элементов современной экономики в регионе не дает этому народу возможностей и сил для превращения в систему, соответствующую его проблемам в текущих исторических реалиях. В то время как у других наций есть консолидация сил во внутренней политике, особенно в опасные и трудные времена, а также внешние поддержка и защита, у курдов в нынешних обстоятельствах все это имеется лишь в потенциале, который до сих пор не реализовался в течение их многострадальной и долгой истории.
Ссылки:
-
1. Османские завоевания [Электронный ресурс] // Diletant.media. URL: https://diletant.media/excursions/29095658 (дата обращения: 06.02.2020).
-
2. Мгои Ш.Х. Исламские экстремисты в современном Курдистане // Курдский вопрос на рубеже тысячелетий : материалы круглого стола. М., 2004. С. 101–113.
-
3. Курдоев К.К. Курдский язык. М., 1961. 82 с.
-
4. Лазарев М.С. Империализм и курдский вопрос (1917–1923 гг.). М., 1989. 328 с.
-
5. Курдское движение в новое и новейшее время / М.А. Гасратян, Дж.Дж. Джалиле, О.И. Жигалина [и др.] ; отв. ред. М.А. Гасратян. М., 1987. 303 с.
-
6. Лозаннский договор. Провал или спасение для Турции? [Электронный ресурс] // Мусульманская Турция. ЯндексДзен. 2019. 31 марта. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5b10e98f48c85e2421e05394/lozannskii-dogovor-proval-ili-spasenie-dlia-turcii-5ca03850d677b400b3b870bf (дата обращения: 06.02.2020).
-
7. Вышинский А.Я. Севрский мирный договор 1920 г., 10 августа [Электронный ресурс] // Дипломатический словарь. М., 1948 // Документы XX в. URL: http://doc20vek.ru/node/3429 (дата обращения: 06.02.2020).
-
8. История Курдистана / М.С. Лазарев [и др.] ; под ред. М.С. Лазарева, Ш.Х. Мгои. М., 1999. 526 с.
-
9. Мгои Ш.Х. Сложности реализации автономии Южного Курдистана и факторы ее необратимости // Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI в. : сборник статей. М., 2006. С. 84–97.
-
10. Полонский И. Мехабадская республика: советский след в героической борьбе курдов [Электронный ресурс] // Военное обозрение : сетевое издание. 2014. 22 окт. URL: https://topwar.ru/60908-mehabadskaya-respublika-sovetskiy-sled-v-geroicheskoy-borbe-kurdov.html (дата обращения: 06.02.2020).
-
11. Лямин Ю. Борьба Ирана с внутренними угрозами [Электронный ресурс] // Перископ.2. Новости ОПК и ВТС России. 2017. 11 авг. URL: http://periscope2.ru/2017/08/11/8709 (дата обращения: 06.02.2020).
-
12. Программа Рабочей партии Курдистана // Специальный бюллетень Института востоковедения РАН. 1988. № 3. С. 37–39.
-
13. Оджалан А. Курдистанская действительность с XIX в. по настоящее время и движение РПК / пер. с тур.
-
14. Ахмедов Т.А. Двадцать пять лет вооруженной борьбе курдов в Турции (1984–2009 гг.) // Исторические науки. 2009. № 5. С. 38–41.
-
15. Гасратян М.А. Национально-освободительное движение в Северо-Западном (Турецком) Курдистане // Современное состояние курдской проблемы. М., 1995. С. 60–66.
-
16. Оджалан А. Проблемы демократизации в Турции. Модели урегулирования ситуации в Курдистане. Дорожная карта. М., 2011. 128 с.
-
17. Арутюнян А.Э. Курдская проблема как фактор дестабилизации турецко-сирийских отношений // Курды Западной Азии (XX – начало XXI в.). Проблема курдского самоопределения : сборник статей. М., 2012. С. 100–118.
М.А. Гасратяна. М., 1998. 376 с.
Редактор: Тюлюкова Мария Олеговна Переводчик: Герасимова Валентина Евгеньевна
Список литературы Истоки курдского самоопределения в контексте обострения геополитической ситуации в ближневосточном регионе
- Османские завоевания [Электронный ресурс] // Diletant.media. URL: https://diletant.media/excursions/29095658 (дата обращения: 06.02.2020)
- Мгои Ш.Х. Исламские экстремисты в современном Курдистане // Курдский вопрос на рубеже тысячелетий: материалы круглого стола. М., 2004. С. 101-113
- Курдоев К.К. Курдский язык. М., 1961. 82 с
- Лазарев М.С. Империализм и курдский вопрос (1917-1923 гг.). М., 1989. 328 с
- Курдское движение в новое и новейшее время / М.А. Гасратян, Дж.Дж. Джалиле, О.И. Жигалина [и др.]; отв. ред. М.А. Гасратян. М., 1987. 303 с
- Лозаннский договор. Провал или спасение для Турции? [Электронный ресурс] // Мусульманская Турция. ЯндексДзен. 2019. 31 марта. URL: https://zen.yandex.ru/media/id/5b10e98f48c85e2421e05394/lozannskii-dogovor-proval-ili-spasenie-dlia-turcii-5ca03850d677b400b3b870bf (дата обращения: 06.02.2020)
- Вышинский А.Я. Севрский мирный договор 1920 г., 10 августа [Электронный ресурс] // Дипломатический словарь. М., 1948 // Документы XX в. URL: http://doc20vek.ru/node/3429 (дата обращения: 06.02.2020)
- История Курдистана / М.С. Лазарев [и др.]; под ред. М.С. Лазарева, Ш.Х. Мгои. М., 1999. 526 с
- Мгои Ш.Х. Сложности реализации автономии Южного Курдистана и факторы ее необратимости // Курдский вопрос в Западной Азии в начале XXI в.: сборник статей. М., 2006. С. 84-97
- Полонский И. Мехабадская республика: советский след в героической борьбе курдов [Электронный ресурс] // Военное обозрение: сетевое издание. 2014. 22 окт. URL: https://topwar.ru/60908-mehabadskaya-respublika-sovetskiy-sled-v-geroicheskoy-borbe-kurdov.html (дата обращения: 06.02.2020)
- Лямин Ю. Борьба Ирана с внутренними угрозами [Электронный ресурс] // Перископ.2. Новости ОПК и ВТС России. 2017. 11 авг. URL: http://periscope2.ru/2017/08/11/8709 (дата обращения: 06.02.2020)
- Программа Рабочей партии Курдистана // Специальный бюллетень Института востоковедения РАН. 1988. № 3. С. 37-39
- Оджалан А. Курдистанская действительность с XIX в. по настоящее время и движение РПК / пер. с тур. М.А. Гасратяна. М., 1998. 376 с
- Ахмедов Т.А. Двадцать пять лет вооруженной борьбе курдов в Турции (1984-2009 гг.) // Исторические науки. 2009. № 5. С. 38-41
- Гасратян М.А. Национально-освободительное движение в Северо-Западном (Турецком) Курдистане // Современное состояние курдской проблемы. М., 1995. С. 60-66
- Оджалан А. Проблемы демократизации в Турции. Модели урегулирования ситуации в Курдистане. Дорожная карта. М., 2011. 128 с
- Арутюнян А.Э. Курдская проблема как фактор дестабилизации турецко-сирийских отношений // Курды Западной Азии (XX - начало XXI в.). Проблема курдского самоопределения: сборник статей. М., 2012. С. 100-118