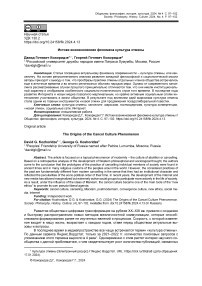Истоки возникновения феномена культура отмены
Автор: Кожоридзе Д.Г., Кожоридзе Г.Г.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальному феномену современности - культуре отмены, или канселингу. На основе ретроспективного анализа развития западной философской и социологической мысли авторы приходят к выводу о том, что прообразы практики отмены отдельных членов общества встречались еще в античные времена и во многих религиозных обычаях народов мира. Однако от современного канселинга рассматриваемые случаи прошлого принципиально отличаются тем, что они имели институциональный характер и отображали особенности социально-политического строя того времени. В последние годы развитие Интернета и новых медиа позволило маргинальным, но крайне активным социальным слоям интенсивнее участвовать в жизни общества. В результате под влиянием идей марксизма культура отмены стала одним из главных инструментов «новой этики» для продвижения псевдолиберальной повестки.
Культура отмены, канселинг, марксизм, постмодернизм, культура конвергенции, «новая этика», социальные сети, интернет
Короткий адрес: https://sciup.org/149145381
IDR: 149145381 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.13
Текст научной статьи Истоки возникновения феномена культура отмены
Развитие общества и цифровая трансформация на рубеже XX–XXI вв. привели к созданию и быстрому распространению новых методов межличностной коммуникации, которые способствовали формированию ранее не изученных явлений и процессов. Скорость, с которой изменения входят в нашу жизнь, возрастает с каждым годом, ставя перед обществом актуальные вызовы и вопросы.
В последнее время в медиапространстве все чаще встречается термин «культура отмены». По данным сервиса Яндекс.Вордстат, только за 2021–2022 гг. количество поисковых запросов с упоминанием этого термина выросло в 4 раза1. Одновременно с этим растет интерес научного сообщества к данной проблематике, о чем свидетельствует рост количества публикаций, связанных с данным вопросом. Например, в 2020 г. в базе данных РИНЦ было лишь 9 статей с упоминанием термина «культура отмены», в то время как в 2021 г. таких статей насчитывалось уже больше 100, а в 2022 г. их количество превысило 250.
Однако с чем связан такой интерес к данному феномену и распространение данной практики в современном обществе? Является ли она принципиально новой или же ее проявления встречались и ранее на протяжении истории? Почему канселинг кристаллизировался именно сейчас и что этому способствовало?
В данной статье на основе ретроспективного анализа и междисциплинарного подхода мы проанализируем предпосылки развития феномена «культуры отмены» и проследим его эволюцию вплоть до сегодняшних дней.
Традиции, включающие в себя бойкот отдельных членов общества, существовали в истории на протяжении нескольких тысяч лет. Еще Аристотель в своем сочинении «Политика» выдвинул тезис о том, что «человек по своей природе есть общественное животное» (Аристотель, 2012). Это подтверждается самой эволюцией – наши предки никогда не были одиночками, они всегда жили группами. Практика изгнания из племени неугодных или провинившихся существовала еще в первобытном обществе.
В Древней Греции подобной формой общественного порицания являлась практика остракизма, наиболее распространенная в 500–450 гг. до нашей эры. Она заключалась в том, что признанный наиболее опасным для государственного строя человек изгонялся из общества сроком на 10 лет. Определение его проводилось путем народного голосования при помощи остраконов – глиняных черепков, отсюда и название – «остракизм». Примечательно, что необязательно нужно было совершить какие-либо правонарушения, чтобы подвергнуться данному своеобразному суду, – он носил скорее профилактический характер и не влек за собой каких-либо других наказаний, потерю гражданского статуса или конфискацию имущества (Кожевникова, 2022: 166).
Своеобразный прообраз практики отмены как изгнания из общества мы встречаем также и в религии. В Ветхом Завете1 упоминается древний иудейский обряд символического возложения грехов всего народа на животное, которое впоследствии отпускали в пустыню, то есть обрекали на мучительную смерть. Обряд этот совершался на праздник Йом-Киппур, а животное называли козлом отпущения.
В средневековой Европе анафема, или отлучение от церкви, широко применялась как форма наказания за инакомыслие и отступничество от церковных правил. Учитывая секуляризацию общества в указанный исторический период, это приравнивалось практически к полному исключению человека из жизни общества: он не мог жениться по церковным канонам, не мог даже рассчитывать на погребение на общем кладбище. Таким образом, отлучение от церкви ставило крест на будущем человека и даже его потомства, так как зачастую и детям отказывали в крещении.
Однако от современного канселинга рассматриваемые практики прошлого принципиально отличаются тем, что они имели институциональный характер и отображали особенности социально-политического строя того времени. Сегодня же никаких обычаев и правил, регламентирующих процедуру отмены, нет. Далее мы проанализируем развитие общественной мысли в контексте взаимоотношения индивида и социума.
Наступление Нового времени, эпоха Просвещения, события Великой французской революции и последовавшие за ними изменения во всех сферах общественной жизни привели к трансформации традиционных европейских ценностей. В результате этих процессов были заложены основы современных ценностных ориентиров западной культуры, выраженные в гуманизме, культе естественных прав человека, свободы слова, вероисповедания, мысли и высказываний (Мухлын-кина, Иванов, 2022: 149).
Развитие идей позитивизма, родоначальником которого считается французский философ и социолог Огюст Конт (Конт, 2011), подстегивало развитие науки и технический прогресс во всех сферах общественной жизни. Фокус внимания философии смещался с метафизических вопросов на позитивное и более прикладное знание об окружающем мире. Вместе с тем росла роль человека и его значимость как субъекта развития общества.
В этот же период начали распространяться идеи либерализма, отстаивающие незыблемость прав и свобод человека как высших ценностей западной цивилизации. Примерами, ярко иллюстрирующими эти тенденции, стали движения за права женщин в XIX в. и национальных меньшинств в США в XX в. (Мухлынкина, Иванов, 2022: 149).
Именно в период Нового времени западная культура в качестве нравственного ориентира избрала опору на право, которое немецкий философ Иммануил Кант характеризовал как «совокупность условий, при которых произвол одного совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы» (Кант, 2007: 75). Концепция толерантности, общепринятая сегодня на Западе, есть своего рода производная стремления общества к построению государства, основанного на защите и отстаивании человеческих прав и свобод (Кранк, 2021: 28).
Существенный вклад в дальнейшее развитие западной философской мысли внес немецкий философ Ф. Гегель, сформулировавший принцип диалектического развития общества, основанный на его постоянных внутренних противоречиях (Гегель, 2021). В этом контексте концепция «борьбы за признание», где человек становится Человеком лишь будучи признанным другими, также играет большую роль в развитии феномена культуры отмены, который в своем абсолюте должен отменить не только заслуги человека, но и его самого, полностью исключив из общественной жизни по аналогии со средневековой анафемой или греческим остракизмом.
На распространение феномена культуры отмены во многом повлияли настроения, вдохновленные марксизмом. Идеи о том, что наука призвана не только заниматься изучением общества и принципов его функционирования, но и влиять на его развитие, заложили основы современного социального активизма, без которого сложно представить новую этику и культуру отмены. Теория классового конфликта, развитая К. Марксом, а также его идея о том, что господствующий класс добивается контроля и повиновения масс не только экономическими средствами, но и посредством создаваемой и насаждаемой им культуры, также лежат в корне многих современных общественно-политических процессов (Маркс и др., 1984).
Пролетарская революция в Европе, предсказанная К. Марксом, так и не свершилась, и перед его последователями встала задача объяснения этого феномена. В своих поисках представители франкфуртской школы пришли к выводу, что причиной этого стало системное угнетение, присутствующее во всех социальных институтах: семье, церкви, морали и культуре в целом. По их мысли, оно пронизывало все сферы жизни общества, связывая его и не давая росткам марксизма пробиться сквозь твердь многовековых традиций (Марков, 2018: 83).
Таким образом, если классические марксисты требовали революционных изменений, то неомарксисты и многие другие философские школы и течения базисом для изменения общества считали именно его культурную сферу.
Эти процессы и изменения предвосхищают новый этап в развитии западной философии, который ознаменовался развитием постмодернизма и массовой культуры, которая стала благодатной почвой для таких явлений, как канселинг.
Говоря об истоках феномена культуры отмены, нельзя не затронуть вопрос параметров, по которым тот или иной объект подвергается канселингу. В этом ключе важную роль играет критерий истины, которым активно занимался, в том числе, Карл Поппер (Popper, 1974). Будучи позитивистом, он выступал с критикой понятия «объективная истина». Для отделения истины от лжи он сформулировал принцип фальсификационизма. Исходя из концепции критического рационализма, К. Поппер отвергал существование однозначного критерия, который позволил бы с уверенностью отнести те или иные продукты человеческой деятельности к разряду истинных. Разделив общества на «открытые» и «закрытые», он выделил такой принцип открытой социальной системы, как жесткий моральный универсализм. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что некий концепт или факт признается истиной в том случае, если ряд авторитетных экспертов согласились счесть его таковым. Иными словами, принимать за истину следует то, что некое общество полагает истинным, а то, что оно отвергает, надо отсечь. По сути, это и есть «структура отмены», подразумевающей диктат и насаждение мнения наиболее активной части общества.
Продолжая размышлять о критериях истины, нельзя не упомянуть Мишеля Фуко, благодаря которому в научных кругах прочно закрепилась идея о том, что истина является социальным конструктом и продуктом функционирования общественной системы (Фуко, 2006). Другими словами, принятые в ней представления о реальности определяются господствующей в социуме общностью для установления контроля и управления остальными людьми (Чугров, 2022: 93).
Таким образом, реальность теряет всякую объективную основу, возникает множество ее вариаций и идея о том, что любое знание может быть деконструировано с целью выявления того, чьи интересы оно лоббирует.
Кровавые потрясения XX в., шовинизм, национализм и мировые войны поставили под вопрос способность традиционной доминировавшей в тот период этики предотвратить угрозу взаимного истребления социальных групп, народов и наций. По мнению Эриха Нойманна, немецкого писателя и психолога, бежавшего от Холокоста в Тель-Авив, старая этика доказала свою несостоятельность в решении актуальной проблемы нравственности современного человека, соответственно, возникает необходимость в формулировании принципов «новой этики», которая позволит человеку стать более терпимым и открытым (Нойманн, 2008).
Наследники идей К. Поппера, члены Венского кружка, также были вынуждены бежать от нацизма в Европе, и большинство из них осели в США, обосновавшись в кампусах и университетах, тем самым привнеся на благодатную американскую почву ростки логического позитивизма. Наложившись на присущий американскому обществу прагматизм, он и дал толчок развитию так называемой «новой этики» и политической реальности современной Америки и других западноевропейских стран.
Неудивительно, что многие американские социологи и психологи, в том числе Джонатан Хайд и Грег Лукианоф, отмечают, что культура отмены выросла именно в американских университетских кампусах как продолжение «культа безопасности», провозглашавшего нетерпимость и запрет на любые высказывания, которые могли бы расцениваться как форма дискриминации по отношению к тем или иным социальным группам или меньшинствам (Haidt, Lukianoff, 2018). Таким образом, идеи толерантности и либерализма претерпели метаморфозы, приняв агрессивные формы борьбы с любыми мнениями, идущими вразрез с принципами наиболее активных слоев социума (Кожевникова, 2022: 166).
Отчасти то, что новомодные течения дали ростки на американской земле, объясняется самой историей США, ее непродолжительностью и отсутствием укоренившихся аристократических традиций. По мнению некоторых ученых, в том числе Артемия Магуна, это в перспективе может грозить США «тиранией большинства», властью общества над душой и моральной монолитностью1.
Одной из основных книг американской левой молодежи является программная работа Герберта Маркузе «Одномерный человек», написанная им в 1964 г., в которой он подвергает критике капиталистическое общество, построенное на культурном доминировании и консьюмеризме (Маркузе, 2003). По мнению ученого, рабочий класс утратил роль движущей революционной силы, и встать в авангарде изменений в современных условиях должна молодежь, студенчество и массы аутсайдеров (люмпены, национальные и прочие меньшинства), «оставшиеся за бортом демократического процесса» (Маркузе, 2003). Своей работой Г. Маркузе заложил теоретические основы студенческих движений западных стран в 1960-е гг. (Янцен, 2020: 120).
В работе «Репрессивная толерантность» философ формулирует тезис о том, что терпимость в форме согласия с идеями, идущими вразрез с общепринятыми, может и должна быть ограничена (Marcuse, 1971). Из этого вытекает популярное сегодня мнение, что настоящая толерантность состоит в агрессивном неприятии согласия, пускай даже и молчаливого, с любыми непопулярными мнениями. Таким образом, данный феномен из практики принятия и солидарности трансформируется и мутирует в оружие осуждения тех, кто «недостаточно толерантен» и придерживается более консервативных взглядов.
Несмотря на то, что XXI в. начался относительно недавно, он уже ознаменовался бурными изменениями во всех сферах жизни общества. В первую очередь это связано с развитием технологий и распространением Интернета, которые, наложившись на рост политического активизма в XX в., способствовали развитию партисипативности в таких до сих пор элитарных сферах жизни общества, как культура. Как мы помним, именно ее последователи марксизма считали базисом для изменения общественного строя.
Метаморфозы в культурной сфере характеризуются рядом факторов, одним из которых стало то, что новые медиа пришли на замену старым. По словам американского культуролога Генри Дженкинса, медиапотребление превратилось в коллективный процесс, в ходе которого происходит совместное создание смысла. Совокупность диффузных течений в современных медиа и культуре он называет «конвергенцией», то есть трансформацией культуры, вызванной увеличением влияния на нее потребителей, так как распространение и развитие культурных явлений и произведений больше не определяется первоначальным замыслом автора, но зависит от реакции на него всего общества (Дженкинс, 2019).
Развитие партисипативной культуры тесно связано с феноменом коллективного разума. Согласно Пьеру Леви, коллективный интеллект – это «сумма общей информации, принадлежащей в индивидуальном порядке членам сообщества знания, доступная в любое время в ответ на конкретный запрос» (Lеvy, 1994). Коллективный разум важен для смыслового наполнения медиапродукта, так как возможность обратиться в любой момент к фанатским сообществам, форумам и другим открытым источникам, обогащает пользовательский опыт, насыщая его новыми красками, оттенками и смыслами, до которых потребитель был бы не в состоянии дойти самостоятельно. Очевидно, что это оказалось бы невозможно без новых технологий и Интернета, который стирает границы между людьми и кардинально снижает издержки на обмен информацией, позволяя находить единомышленников по всему миру в любое удобное время (Афанасов, 2019: 256).
В современной реальности цифровые технологии охватывают все области человеческой деятельности, непосредственным образом формируя как личную жизнь отдельных людей, так и их коллективную и групповую деятельность. Мануэль Кастельс, современный испанский социолог, исследуя эти процессы, формулирует концепцию сетевого общества, основанного на потоках данных. По его мысли, ключевым экономическим ресурсом сегодня становится информация, и обладание технологиями генерирования, модерации и передачи ее потоков становится одним из главных условий производительности, конкурентоспособности и власти в целом (Кастельс, 2000). Соответственно, новые медиа и социальные сети как место концентрации лидеров мнений становятся эффективным инструментом манипулирования общественным сознанием (Серкина, 2019).
Большинство исследователей сходятся во мнении, что развитие Интернета и социальных сетей стало ключевым фактором в сдвиге парадигмы межличностных коммуникаций. Значительная часть современных примеров «канселинга» отправной точкой имели именно скандалы, вызванные высказываниями или действиями, зафиксированными в социальных сетях. Чаще всего это касается знаменитостей и медийных личностей, имеющих обширную сеть подписчиков и фанатов.
Интернет стал площадкой для новых медиа, гораздо менее подверженных цензуре со стороны авторов и редакторов, но вместе с тем являющихся платформой для распространения таких новых явлений, как кибербуллинг, культура отмены и проч. В связи с этим в рамках изучения феномена культуры отмены важно обратить особое внимание именно на социальные сети, паттерны распространения информации в них и этапы «отмены», присущие именно новым медиа.
Таким образом, проведя ретроспективный анализ, опираясь на принципы историзма и детерминизма, мы видим, что зарождение и развитие феномена отмены не происходило в вакууме, напротив, оно обуславливается многолетней европейской философской традицией.
Данное явление как форма социальной стигматизации в той или иной степени присутствовало всегда, однако в современном его понимании культура отмены отличается тем, что носит не институциональный характер и инициируется не элитой или верхушкой общества, а различными социальными группами, в том числе и маргинальными. Конвергенция культуры и общества позволила им практически приватизировать массовую культуру, и они считают себя вправе как создавать «звезд» и лидеров мнений, так и свергать их с пьедестала общественного внимания. Пока сложно дать однозначную этическую оценку данному феномену, но уже сейчас встречаются случаи незаслуженного, преждевременного и несоразмерного с проступком общественного порицания высказываний или деяний в рамках волны отмен, как это было, например, с Бредом Питтом или Кевином Спейси, чьи репутации были сильно подпорчены обвинениями, которые впоследствии были опровергнуты в суде. Это ставит перед обществом задачу глубокого дальнейшего изучения данной проблематики с целью недопущения злоупотреблений в рамках практики отмены, а также исследования последствий канселинга как для его объекта, так и для субъектов и общества в целом.
Список литературы Истоки возникновения феномена культура отмены
- Аристотель. Политика. М., 2012. 393 с.
- Афанасов Н.Б. Генри Дженкинс и фанфик по теории медиа // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2019. № 3. С. 250–263. https://doi.org/10.24411/2658-7734-2019-10033.
- Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. М., 2021. 768 с.
- Дженкинс Г. Конвергентная культура. М., 2019. 384 с.
- Кант И. Метафизика нравов. М., 2007. 399 с.
- Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М., 2000. 606 с.
- Кожевникова А.А. Культура отмены как один из противоречивых феноменов современного общества: генезис и пути развития // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2022. № 1–1. С. 165–168. https://doi.org/10.46554/Sci-enceXXI-2022.03-1.1-pp.165.
- Конт О. Общий обзор позитивизма. М., 2011. 200 с.
- Кранк Э.О. «Культура отмены» и «новая этика» // Культура и искусство: традиции и современность. Чебоксары, 2021. C. 27–33.
- Марков Б.В. Незавершенная революция: политическая философия Франкфуртской школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2018. Т. 34, № 1. С. 79–90. https://doi.org/10.21638/11701/spbu17.2018.108.
- Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О диалектическом и историческом материализме. М., 1984. 636 с.
- Маркузе Г. Одномерный человек. М., 2003. 331 с.
- Мухлынкина Ю.В., Иванов А.И. Культура отмены: истоки, проявления, влияние на общество // Позиция. Философские проблемы науки и техники. 2022. № 18. С. 148–161.
- Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика. СПб., 2008. 253 с.
- Серкина Н.Е. Понятие сетевого общества М. Кастельса // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2019. № 2 (41). С. 161–169. https://doi.org/10.24411/2078-1024-2019-12017.
- Фуко М. Дискурс и истина. Мн., 2006. 152 с.
- Чугров С.В. Культура отмены в мировой политике: историко-философские корни // Полис. Политические исследования. 2022. № 5. С. 88–98. https://doi.org/10.17976/jpps/2022.05.07.
- Янцен И.Д. Концепция «одномерного человека» Герберта Маркузе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 4-1 (43). С. 119–122. https://doi.org/10.24411/2500-1000-2020-10317.
- Haidt J., Lukianoff G. The Coddling of the American Mind: How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure. N. Y., 2018. 340 р.
- Lеvy P. L’Intelligence collective. Paris, 1994. 243 р. (на фр. яз.)
- Marcuse H. Repressive Tolerance // Political Elites in a Democracy. N. Y., 1971. Р. 5–10. https://doi.org/10.1007/978-1-349-19275-5_10.
- Popper K.R. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford, 1974. 380 р.