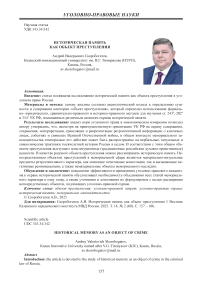Историческая память как объект преступления
Автор: Скоробогатов Андрей Валерьевич
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 (60) т.16, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение: статья посвящена исследованию исторической памяти как объекта преступления в уголовном праве России.
Объект преступления, уголовно-правовой запрет, уголовно-правовая охрана, историческая память, мемориальное законодательство
Короткий адрес: https://sciup.org/142245175
IDR: 142245175 | УДК: 343.34+342 | DOI: 10.37973/2227-1171-2025-16-2-157-166
Текст научной статьи Историческая память как объект преступления
В 2025 г. исполняется 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на то что данное событие ознаменовало собой разгром не только фашистской Германии, но и нацистской идеологии, в последние годы идеи неонацизма становятся популярными по всему миру [1]. Это ставит на повестку дня формирование механизма противодействия распространению этой идеологии, в т.ч. средствами уголовного права. В то же время необходимо учитывать, что неонацизм своими корнями уходит в историю. Поэтому противодействие ему должно осуществляться с учетом мнемонического контекста. Применительно к российскому уголовному праву это проявилось, прежде всего, в трех статьях Уголовного кодекса РФ1 (ст. 2434, 2824 и 3541) (далее – УК РФ), которые выступают частью мемориального законодательства.
Обзор литературы
В настоящее время в юридической науке существует два основных подхода к определению мемориального законодательства (законов о памяти). В узком смысле к ним относят исключительно уголовно-правовые законы, направленные на противодействие отрицанию, искажению и фальсификации исторической памяти (N. Koposov [2], E. Fronza [3]). В широком смысле в состав мемориального законодательства включают всю совокупность нормативных правовых актов, регулирующих вопросы содержания, сохранения, интерпретации, трансляции и репрезентации информации о ключевых лицах, событиях и символах прошлого, которые имеют непреходящее значение для формирования и поддержания граж- данской идентичности и национальной безопасности (U. Belavusau, A. Gliszczyńska-Grabias [4]). Однако независимо от подхода к сущности мемориального законодательства уголовно-правовые вопросы охраны исторической памяти занимают в нем существенное место. Это обусловливает необходимость их анализа не только в контексте мнемонического нарратива, но и с позиций уголовно-правовой науки.
В настоящее время можно выделить несколько направлений исследований обозначенной проблематики в уголовно-правовой науке: (1) рассмотрение норм УК РФ, посвященных преступлениям в мнемонической сфере как мемориального законодательства в узком смысле (Н.Е. Копосов [5]); (2) изучение мемориальных уголовно-правовых норм в общем контексте развития мемориального законодательства в широком смысле (А.А. Дорская, Д.А. Пашенцев [6], А.В. Скоробогатов [7]); (3) рассмотрение вопросов охраны исторической памяти средствами уголовного права (В.Г. Кикнадзе [8], А.В. Мартиросян [9], К.В. Шевелева [10]); (4) анализ отдельных статей УК РФ, посвященных охране исторической памяти: 2434 (В.В. Бычков [11], Г.Л. Москалев [12], И.В. Пантюхина [13]), 2824 (А.Р. Абдуллин [14], С.А. Пичугин [15]), 3541 (Л.З. Багандова [16], А.Ю. Иванов [17], П.В. Пошелов [18]).
Исследование состояния изученности проблем борьбы с преступлениями в мемориальной сфере показало, что преимущественно данная проблематика рассматривается в классическом смысле, что уже не соответствует потребностям современной науки, ориентированной на анализ уголовно-правового регулирования не только в юридическом, но и в социокультурном контексте. Прежде всего, речь идет об определении объекта преступления в мемориальной сфере.
Материалы и методы
В настоящее время в уголовно-правовой науке нет единой позиции относительно содержания понятия «объект преступления». Наряду с господствующей еще с советских времен точкой зрения об отнесении к нему общественных отношений, которые охраняются уголовно-правовым законом, существует множество альтернативных позиций, призванных исследовать эту категорию в соответствии с достижениями современной криминологии. Среди этих теорий наиболее перспективными для анализа объекта преступлений в мемориальной сфере представляется аксиологический подход, позволяющий включить борьбу с преступлениями, направленными на отрицание, искажение и фальсификацию исторической памяти, в общий контекст мемориальной политики российского государства.
С позиций аксиологического подхода объектом преступления являются блага, т.е. социальные ценности, охраняемые уголовным законом, на которые посягает лицо, совершающее преступление, и которым причиняется существенный вред в результате совершения данного деяния [19, с. 72]. В первую очередь речь идет о конституционных ценностях [20], к числу которых, в соответствии с новеллами ст. 67.1 Конституции РФ1, отнесена историческая память, сохранение и охрана которой гарантируется государством2. Несмотря на утверждение ряда англоязычных авторов, что российские мемориальные законы вызваны политическими потребностями и направлены на борьбу со свободами слова и собраний [21], в действительности уважительное отношение к прошлому и стремление не только к сохранению традиций, но и использованию исторического опыта является одной из экзистенциальных составляющих российской цивилизации [22].
Результаты исследования
Как уже отмечено выше, вопросам охраны исторической памяти в УК РФ посвящено три статьи: 2434 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России», 2824 «Неоднократные пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» и 3541 «Реабилитация нацизма». Нам представляется целесообразным рассмотреть эти статьи в едином мнемоническом контексте.
К сожалению, при обращении к вопросам охраны исторической памяти УК РФ не включает эти статьи не только в одну главу, но даже в один раздел. Это не позволяет проанализировать историческую память как объект преступления исключительно легально. Необходимо обращение к социально-антропологическому контексту, который позволяет рассмотреть нормы уголовного закона через призму их воздействия на субъектов права и выявить те объекты, на которые они способны воздействовать и воздействие на которые может угрожать общественному благу и интересам человека. В этом контексте именно историческая память выступает социальной или в соответствии со Стратегией национальной безопасности3 духовно-нравственной ценностью, которая может рассматриваться как объект преступления.
Объективация исторической памяти носит юридический характер и достигается ее основанностью, с одной стороны, на российском мемориальном законодательстве, в частности, на нормах Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»4, бланкетную ссылку на которые содержит ч. 3 ст. 3541. С другой стороны, ч. 1 этой статьи ссылается на приговор Нюрнбергского трибунала, тем самым включая историческую память российского народа не только в национальный, но и международно-правовой контекст. При этом мы солидарны с позицией Г.Л. Москалева, что охране подлежит только историческая память, соответствующая исторической правде, т.е. имеющая достоверный характер [23, с. 1076]. Однако к этому следует добавить, что достоверный характер исторической памяти непосредственно связан с ее фреймированием в мемориальном законодательстве.
В качестве запрета, определяющего содержание исторической памяти как объекта преступления, выступает, с одной стороны, запрет на отрицание, искажение и (или) фальсификацию исторической памяти, а с другой – негативная интерпретация исторической памяти и (или) пропаганда информации, являющейся контрнарративом и имеющей деструктивный характер для охраны прав и законных интересов российских граждан, обеспечения конституционной идентификации и национальной безопасности. Содержание данного уголовно-правового запрета связано с криминализацией ряда правонарушений, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях1 (ст. 13.15, 13.48, 20.3), и в значительной части обусловлено необходимостью криминализации положений Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»2 о противодействии распространению идеологии фашизма и нацизма не только в ретроспективном, но и проспективном отношении [24]. Однако формулировки УК РФ существенно шире положений данного закона и предполагают охрану исторической памяти не только применительно к событиям Великой Отечественной войны, но и всей тысячелетней истории России.
Хотя названия статей УК РФ предполагают в качестве объекта преступления лишь историческую память о Великой Отечественной войне [25], расширительное толкование формулировок диспозиций ст. 2434, 2824 и 3541 дает основание утверждать, что речь идет не только об этом факте, но и об иных ключевых лицах, событиях и символах, которые имеют ценностное значение для российской конституционной идентичности и которые нашли экспликацию в нормах мемориального законодательства, способствуя консолидации российского общества в условиях СВО [26, p. 117-118]. Обращение к действующей редакции Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», который установил фреймы официального исторического нарратива и определил конкретные топосы исторической памяти многонационального российского народа, позволяет говорить, что в качестве объекта преступления, предусмотренного ст. 3541, может выступать искаженная или фальсифицированная информация о ключевых лицах, событиях и символах России, начиная с Крещения Руси (988 г.) и заканчивая включением в состав нашего государства территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей (2022 г.).
Системное исследование объекта преступления предполагает рассмотрение его с позиций вертикальной и горизонтальной классификации, что позволяет не только проанализировать состав отдельного деяния, но и определить его соотношение со смежными составами. В соответствии с вертикальной классификацией выделяют общий, родовой и непосредственный объекты преступлений, а в соответствии с горизонтальной – непосредственный основной и непосредственный дополнительный (обязательный и факультативный).
Общим объектом преступления применительно к мемориальному законодательству являются конституционные (традиционные российские духовно-нравственные) ценности. Их охрана в соответствии с актами стратегического планирования является необходимым условием поддержания гражданской идентичности и обеспечения национальной безопасности. В частности, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации среди тенденций современного мирового развития, которые несут угрозу российской цивилизации, указаны «попытки целенаправленного размывания традиционных ценностей, искажения мировой истории, пересмотра взглядов на роль и место России в ней, реабилитации фашизма, разжигания межнациональных и межконфессиональных конфликтов», предпринимаемые в последние годы недружественными государствами (ст. 19). Это обусловило не только включение исторической памяти в контексте традиционных российских духовно-нравственных ценностей в число национальных интересов (п. 7 ст. 26), но и уделение большого внимания ее охране именно с целью противодействия деструктивным действиям в мемориальной сфере, происходящим как в России, так и за рубежом (ст. 84 – 93).
Развитие этих идей осуществлялось по двум направлениям. С одной стороны, происходит усиление роли мнемонического нарратива в обеспечении преемственности поколений. Включение исторической памяти в число традиционных российских духовно-нравственных ценностей (ст. 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей3) не только усилило ее экзистенциальное значение для обеспечения национальной безопасности, но и позволило расширить ее значение в социализации российских граждан. В первую очередь этому аспекту посвящены Основы государственной политики в области исторического просвещения1. Во-вторых, мнемонический аспект был усилен путем включения в задачи воспитания и просветительской деятельности «уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества» (п. 2, 34 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в РФ»2). С другой стороны, усилен мемориальный контекст противодействия экстремистской деятельности. Принятая 28 декабря 2024 г. новая Стратегия противодействия экстремизму3 в числе угроз распространения экстремизма в России прямо указывает на «политику некоторых иностранных государств по искажению истории, фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в победу над гитлеровской Германией и милитаристской Японией, возрождению идей нацизма и фашизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов и их пособников» (ст. 12).
В то же время это не предполагает, что криминализация мнемонического нарратива должна осуществляться в контексте противодействия исключительно экстремисткой деятельности, поскольку сохранение исторической памяти затрагивает интересы не только конституционной безопасности, но и общественные интересы в иных сферах жизнедеятельности. При понимании мемориального законодательства в широком смысле к нему будет относится вся совокупность нормативных правовых актов, регулирующих вопросы содержания, сохранения, трансляции, интерпретации и репрезентации информации о ключевых лицах, событиях и символах прошлого, имеющих непреходящее значение для поддержания конституционной идентичности и обеспечения национальной безопасности [27]. Исходя из этого, уголовно-правовая охрана исторической памяти, эксплицированной в мемориальном законодательстве, направлена на защиту от преступных посягательств любых проявлений исторического наследия в контексте его значения для обеспечения, прежде всего, национальной безопасности. Именно поэтому статьи, посвящен- ные охране исторической памяти, целесообразно включить в раздел IX, посвященный обеспечению общественной безопасности и общественного порядка, а не в раздел XII, направленный на обеспечение безопасности человечества. Кроме того, необходимо учитывать, что СВО и прокси-война, ведущаяся коллективным Западом против России, показали, что концепция прав человека исчерпала свой универсальный характер. Реализация прав индивида в том или ином государстве обеспечивается не столько международным правом, сколько национальной правовой системой, основанной в значительной степени на правовой традиции. В связи с этим даже при наличии ссылок на международное право в нормативных правовых актах на первое место должна быть поставлена защита национальных интересов. Тем более что это будет полностью соответствовать новеллам ст. 67.1 Конституции РФ.
В качестве родового объекта преступления можно рассматривать историческую память. Историческая память, как ценность, представляет собой совокупность информации о ключевых лицах, событиях и символах прошлого, которые имеют непреходящее значение для формирования и поддержания гражданской идентичности и обеспечения национальной безопасности. Историческая память – это коллективные представления о прошлом, сложившиеся в определенном сообществе и отражающие коллективную рефлексию исторического опыта предыдущих поколений, который показал свою эффективность и был передан в процессе правового наследия и воспроизводство которого потенциально способно привести к позитивному результату.
Содержание исторической памяти и интенциональность ее сохранения, трансляции, интерпретации и репрезентации, соответствующая официальному историческому нарративу и определяющая вектор мнемонических уголовно-правовых запретов, содержится в мемориальном законодательстве, которое имеет бинарный характер. С одной стороны, законы о памяти являются экспликацией конвенционального результата социальной рефлексии национальной истории. С другой стороны, мемориальное законодательство можно рассматривать как социальный конструкт, определяющий фреймы исторической памяти, но-нравственных ценностей: указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 // Собрание законодательства Российской Федерации. 14.11.2022. № 46. Ст. 7977.
которые государство транслирует гражданам и сохранение и репрезентация которых возможна только при условии, что их интерпретация коррелирует с официальным историческим нарративом. В контексте уголовного законодательства историческая память может существовать в двух формах: (1) вербальная, включая литеральное ее выражение, связанное с ретроспективной экспликацией информации о ключевых лицах, событиях и символах прошлого, в т.ч. находящая закрепление в законодательстве (ст. 2824, 3541 УК РФ); (2) визуально-материальная, связанная с охраняемыми законодательством предметами культурного наследия (ст. 2434) и визуализированными символами как подлежащими уголовной охране в силу их мемориального характера (ст. 3541 УК РФ), так и, напротив, запрещенными законодательством в силу их деструктивного воздействия на сознание и поведение российских граждан (ст. 2824 УК РФ).
Руководствуясь единством родового объекта определенных, в некоторой степени однородных преступлений, всю совокупность уголовно-правовых запретов деяний, направленных на отрицание, искажение или фальсификацию исторической памяти, целесообразно выделить в самостоятельную главу, разместив ее в разделе IX и обозначив в качестве гл. 24.1 «Преступления против исторической памяти». Речь идет об объединении в один комплекс норм, сформулированных в настоящее время в ст. 2434, 2824 и 3541. Несмотря на то, что геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны еще не признан нормативно в качестве преступления1, в указанную главу необходимо также включить статью, направленную на противодействие отрицанию данного деяния. Кроме того, в данную главу необходимо включить статью, посвященную охране нематериального этнокультурного достояния как специфической формы исторической памяти, сделав бланкетную ссылку на Федеральный закон «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ»2. Данная статья должна включать в себя уголовно-правовые средства сохранения, защиты и использования объектов нематериального этнокультурного достояния3.
Наиболее сложным представляется определение непосредственного объекта преступлений в мемориальной сфере. С одной стороны, можно согласиться с позицией ряда авторов, указывающих на недостаточно четкую формулировку непосредственного объекта преступления против исторической памяти, особенно в ст. 3541 [28]. С другой стороны, ст. 2434, 2814 и 3541 УК РФ необходимо рассматривать в едином контексте не только социокультурно, но и юридико-технически. Объединение этих статей в одной главе позволит более четко сформулировать непосредственный объект преступлений мемориального характера. В качестве таковых можно обозначить: материально-визуальные предметы, как имеющие позитивные коннотации «воинские захоронения, памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященные дням воинской славы России (в том числе мемориальные музеи или памятные знаки на местах боевых действий), а равно памятники, другие мемориальные сооружения или объекты, посвященные лицам, защищавшим Отечество или его интересы» (ст. 2434), так и вызывающие негативные реминисценции символы – «нацистская атрибутика или символика, либо атрибутика или символика, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения» (ст. 2824), а также нематериальные объекты мемориального наследия (этнокультурного достояния), в числе которых УК РФ в настоящее время называет «факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси», «заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны» (ч. 1 ст. 3541), «выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны» (ч. 3
ст. 3541). Для уточнения непосредственного объекта преступлений в мемориальной сфере мы предлагаем внести ряд изменений в диспозицию действующей ч. 1 ст. 3541: (1) заменить указание на приговор Нюрнбергского трибунала ссылкой на всю совокупность приговоров судебных процессов против нацистских преступников, которые проходили во второй половине 1940-х гг.: международные трибуналы (Нюрнбергский, Токийский), открытые судебные процессы в отношении иностранных военных преступников и их пособников из числа советских граждан, которые проводились в СССР в 1943 – 1949 гг. (Краснодарский, Краснодонский, Харьковский, Смоленский, Брянский, Ленинградский, Николаевский, Минский, Киевский, Великолукский, Рижский, Севастопольский, Полтавский, Новгородский, Сталинский, Гомельский, Черниговский, Бобруйский, Кишиневский, Витебский, Хабаровский), а также решения судов субъектов РФ о признании геноцида народов СССР в годы Великой Отечественной войны, принятые с 2020 г., отрицание которых не только противоречит официальному историческому нарративу, но и выступает формой реабилитации действий лиц, признанных преступными этими процессами; (2) исходя из названия данной статьи, необходимо включить в диспозицию легальную дефиницию понятия «реабилитация нацизма», включив в нее всю совокупность действий по отрицанию, искажению и фальсификации информации о преступлениях нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, в т.ч. деяния, связанные с оправданием, прославлением, реконструкцией нацистской идеологии, а также с использованием и демонстрацией символики, выражающей нацистские идеи; (3) включить ст. 3541 в предлагаемую нами гл. 24.1 «Преступления против исторической памяти».
Необходимость объединения мемориальных уголовно-правовых запретов в одну главу согласуется и с судебной практикой, которая рассма- тривает преступления, предусмотренные ст. 2434, 2824 и 3541 в контексте охраны исторической па-мяти1. В целом это будет укладываться и в мировой опыт противодействия преступлениям, связанным с отрицанием, искажением и фальсификацией исторической памяти [29].
Обсуждение и заключение
Таким образом, уголовно-правовая охрана исторической памяти как одно из направлений исторической политики занимает в России большое место в поддержании гражданской идентичности и обеспечении национальной безопасности. Хотя охрана преимущественно направлена на поддержание уголовно-правовыми средствами содержания, сохранения, интерпретации, трансляции и репрезентации ретроспективной информации о ключевых лицах, событиях и символах Великой Отечественной войны, рассмотрение этих норм в общем контексте мемориального законодательства позволяет расширить их применение на вербальные, визуальные и символические трактовки исторической памяти обо всей тысячелетней истории России. В соответствии с этим общим объектом преступления выступают конституционные (традиционные российские духовно-нравственные) ценности. В качестве родового объекта преступления можно рассматривать историческую память. Непосредственным объектом преступлений в мемориальной сфере являются материально-визуальные предметы ретроспективного характера, как имеющие позитивные коннотации, так и вызывающие негативные реминисценции, а также нематериальные объекты мемориального наследия. Исходя из этого, целесообразно объединить все уголовно-правовые нормы мнемонического характера в одну главу, дополнив их, с одной стороны, расширением перечня судебных приговоров, направленных на осуждение иностранных преступников и их пособников на территории СССР, а с другой – включив в их содержание ответственность за отрицание геноцида советского народа.