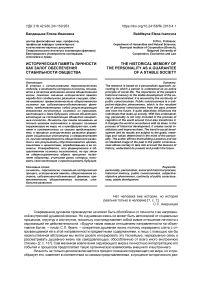Историческая память личности как залог обеспечения стабильности общества
Автор: Балдицына Елена Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье с использованием персоналистского подхода, в контексте которого личность понимается в качестве активного начала общественной жизни, показано значение исторической памяти народа для стабильного развития социума, обеспечиваемого преемственностью общественного сознания как субъективно-объективного феномена, представляющего собой результирующую множества личностных сознаний из прошлого, настоящего и даже будущего, вполне объективно влияющую на составляющие общество конкретные личности. Личность при таком понимании не только целиком включается в процесс познания окружающего ее мира, но и преобразует его, изменяет в соответствии со своими представлениями; в процессе исторического развития формирует социальные институты и совершенствует их, причем направленность общественного развития и его результаты обусловливаются целями, смыслами и ценностями, определяемыми в ее сознании. Утверждается, что формирование в общественном сознании позитивного, но при этом не идеализированного образа прошлого позволяет обществу, учитывая уроки истории, понимать свое настоящее и прогнозировать будущее.
Личность, персонализм, социально-исторический процесс, историческая память, общественное сознание, субъективно-объективный феномен, преемственность общественного сознания, стабильное развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/14941502
IDR: 14941502 | УДК: 316.42:930.24+159.953 | DOI: 10.24158/fik.2018.4.1
Текст научной статьи Историческая память личности как залог обеспечения стабильности общества
СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Нет человека вне истории, но история реальна только в человеке [1, с. 7].
С.С. Аверинцев
Современное духовное производство не может быть обособлено от личности с ее напряженной внутренней душевной жизнью. Но и душевная жизнь не может быть автономной от социальных процессов, структур и институтов, поскольку она представляет собой живое отношение личности к окружающей ее действительности. «Будучи таким живым отношением направленности на объективное бытие, – писал С.Л. Франк, – конкретная душевная жизнь поэтому неразрывно слита с открывающимися ей в этой направленности предметными содержаниями, и лишь с помощью как бы насильственной абстракции мы могли доселе игнорировать эту теснейшую, неразрывную связь и рассматривать душевную жизнь как самодовлеющую, обособленную от всего иного внутреннюю стихию» [2, с. 137]. Сам механизм вовлечения окружающего мира в личностную интерпретацию его событий и процессов предполагает такую органическую взаимосвязь внешнего и внутреннего.
Личность не только целиком включается в процесс познания окружающего ее мира, но и преобразует его, изменяет в соответствии со своими представлениями, в процессе исторического раз- вития формирует социальные институты и совершенствует их, причем направленность общественного развития и его результаты обусловливаются целями, смыслами и ценностями, определяемыми в ее сознании. В словарной статье дореволюционной энциклопедии Брокгауза и Ефрона В.С. Соловьев писал: «Началом прогресса от низших форм общественности к высшим является Л. в силу присущего ей неограниченного стремления к большему и лучшему. Л. в истории есть начало движения (динамический элемент), тогда как данная общественная среда представляет консервативную (статическую) сторону человеческой жизни» [3, с. 245]. Речь здесь идет, конечно, не об отдельной и обособленной личности, а об их совокупности, не ограниченной временным интервалом и включающей в себя ряд взаимосвязанных традиций поколений из прошлого, настоящего и даже будущего, поскольку формируемый в общественном сознании (которое может быть понимаемо в качестве субъективно-объективного феномена, возникающего как некоторая результирующая множества субъективных сознаний, начинающая вполне объективно влиять на мысли и действия отдельных личностей и коллективов) образ желаемого для потомков состояния может вполне ощутимо воздействовать на события и процессы современности. Исходя именно из таких персоналистских установок русский философ и мог утверждать, что «общество есть дополненная, или расширенная, личность, а личность - сжатое, или сосредоточенное, общество» [4, с. 285-286].
В наши дни взаимоотношение «личность – общество» кардинально изменилось, что обусловливается прежде всего если не «распадением», то нарушением «связи времен» (У. Шекспир «Гамлет»), все более решительным отказом человечества от традиционных форм и методов общежития. Особое значение для понимания ситуации, в которой оказалась личность в условиях современности, представляет модель модерного понимания времени, разработанная Ю. Хабермасом: настоящее в процессе модерного ощущения времени обращено к будущему, а будущее опрокинуто в прошлое [5]. Эта модель дает представление о том, насколько значимым для личности является ее историческое сознание: образы прошлого создают основу для понимания как настоящего, так и будущего. Если же «связь времен» нарушается, то и настоящее становится непонятным для личности, значит, некомфортным и угрожающим ей, при этом будущее кажется непрогнозируемым и тоже устрашающим.
Отсутствие положительных интерпретаций прошлого в сознании множества личностей нарушает преемственность общественного сознания, позволяющую обществу в процессе социальноисторического развития сохранять свою целостность, «невозможную без обеспечиваемой традициями трансляции от поколения к поколению аксиологических, семантических и телеологических мировоззренческих элементов» [6, с. 50]. Преемственность общественного сознания обусловливает историчность общества как «нечто постоянное в своем возобновлении. Смысл, который онтологически основан в “бытии к концу” (термин из системы фундаментальной онтологии М. Хайдеггера. - Е. Б. ), поддерживает это постоянство возобновления» [7, с. 116]. Отсутствие исторического смысла в общественной жизни с необходимостью приводит и к обессмысливанию личной жизни.
Сегодня российские власти обратили внимание на чрезвычайную важность для жизнедеятельности личности и общества формирования и развития в общественном сознании исторической памяти и проводят активную деятельность в этом направлении. Но совсем недавно положение было прямо противоположным: образы прошлого сознательно очернялись в общественном сознании всего российского народа посредством пропаганды, что продолжалось в течение целого столетия. На протяжении всего ХХ в. российское общество шаг за шагом уничтожало позитивные образы прошлого, делая это избирательно, в угоду политической конъюнктуре. Так, в период после революции 1917 г. и захвата власти большевиками дискредитации подвергся «царизм». Тысячелетний общественно-исторический опыт государственного строительства и социальной жизни представлялся как единый и непрерывный процесс угнетения, насилия, совершаемых в особо уродливых по сравнению с «цивилизованной» Европой формах. Этот миф родился еще до советской власти – его авторы являлись исполнителями политического заказа со стороны ряда правительств европейских стран, активно использовавших мифотворчество и другие сходные технологии для достижения геополитических целей. Он был подхвачен и «внутренней оппозицией», вестернизированной элитой, возникшей в результате реформ XVIII–XIX вв. и оказавшейся под сильным идейным и интеллектуальным влиянием Запада. На исходе XX в. снова наступило время для самоуничижения российского народа, отрицавшего свое, уже советское прошлое и представлявшего его только в негативных тонах. Сегодня, похоже, активное совсем недавно антисоветское мифотворчество оборачивается если не восхвалением действительно имевшего место тогда произвола властей, то признанием его исторической необходимости; время же либеральных реформ отображается в общественном сознании при действенном участии средств массовой информации преимущественно в негативных тонах. Видимо, можно констатировать, что за прошедшее столетие отрицание своего прошлого уже стало одной из устойчивых характеристик отечественного менталитета. Вся эта отрицательная мифология далеко не безобидна, она превращает восприятие личностью окружающего ее социального мира в эмоционально окрашенный процесс неприятия дей- ствительности, ведь если человеку долго и упорно твердить, что социальный строй с его структурами и институтами не соответствует системе ценностей, то он начинает ощущать себя насильственно в него включенным, воспринимать общество как чуждую и враждебную стихию, изменить которую он не в силах, а может только адаптироваться к ней.
В.В. Бибихин писал, что личность не является для общества исходной данностью, «она находит себя где-то на пересечении сложных структур». Ценность личности проявляется тогда, когда она более или менее полно входит в эти структуры: «Она подпитывает себя за счет задач культуры, или социалистического строительства, или просто государственного строительства, или перестройки, или Бога, или какого-нибудь Его производного, скажем ноосферы или еще чего-либо крупного, например соборности, если известно, что это такое, лишь бы сохранялась возможность вписаться в сложную сеть государственных, научных, академических, экономических, “информационных”, церковных или околоцерковных институтов и т. д.» [8, с. 22–23]. Личность в качестве не данности, но заданности, с одной стороны, формирует себя вхождением в определенные социальные структуры, однако, с другой – может и модифицировать их, в особенности это относится к конкретной множественности личностей, составляющих в совокупности общество. Поэтому социальные теории, описывающие личность в пассивном ее аспекте, как продукт социализации и не учитывающие ее активности, способности влиять на условия своего существования и изменять их, являются односторонними. Как справедливо подчеркивал Н.А. Бердяев, «нужно оставить совершенно ложную идею второй половины XIX в., что человек есть создание социальной среды. Наоборот, социальная среда есть создание человека. Это не значит, что социальная среда не действует на человека, она очень действует. Но рабья социальная среда, порабощающая человека, есть порождение рабьего состояния человека, рабьих душ» [9, с. 447]. Надо полагать, что состояние человека, внутренне направленного к своему освобождению, соответственным образом будет изменять и социальную среду. Будучи активным началом (по В.С. Соловьеву – динамическим элементом), личность, разумеется, не может изменить общественную среду как консервативную, статическую сторону человеческой жизни в соответствии со всеми своими желаниями, однако она вполне способна постепенно модифицировать условия своего существования, исходя из собственных представлений о должном состоянии общества. Но для того чтобы эти представления были реальными, а не иллюзорными или фантастическими, их необходимо соотнести с образами как будущего, так и прошлого, между которыми не должно быть разрывов.
Таким образом, историческая память народа может стать влиятельной когнитивной силой процесса общественного развития, одновременно с этим не переставая являться залогом и фактором обеспечения стабильности социума, однако для этого следует избегать и идеализации прошлого, сохраняя критическое отношение к нему, что значит – извлекать из прошлого уроки, уметь разделять в нем «зерна и плевелы», положительные и отрицательные моменты, а также сохранять в настоящем его позитивный опыт, избавляясь от негативного.
Ссылки:
-
1. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. 342 с.
-
2. Франк С.Л. Реальность и человек. М., 1997. 480 с.
-
3. Соловьев В.С. Личность // Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов н/Д., 1997. С. 245–247.
-
4. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соловьев В.С. Сочинения : в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 47–548.
-
5. Habermas J. Zur Rekonstruction des Historischen Materialismus. Frankfurt am Main, 1976. 346 S.
-
6. Лагунов А.А., Ходорко А.В. Мировоззренческие традиции как фактор обеспечения преемственности этнического сознания // Этнические проблемы современности : сб. науч. тр. Вып. 22. Ставрополь, 2017. С. 49–56.
-
7. Глазков А.П. Эсхатологическая историософия и ее онто-феноменологическое измерение : монография. М., 2015. 216 с.
-
8. Бибихин В.В. Узнай себя. СПб., 1998. 577 с.
-
9. Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого // Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. Сочинения. М. ; Харьков, 2003. С. 341–500.
Список литературы Историческая память личности как залог обеспечения стабильности общества
- Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997. 342 с.
- Франк С.Л. Реальность и человек. М., 1997. 480 с.
- Соловьев В.С. Личность//Философский словарь Владимира Соловьева. Ростов н/Д., 1997. С. 245-247.
- Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия//Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 47-548.
- Habermas J. Zur Rekonstruction des Historischen Materialismus. Frankfurt am Main, 1976. 346 S.
- Лагунов А.А., Ходорко А.В. Мировоззренческие традиции как фактор обеспечения преемственности этнического сознания//Этнические проблемы современности: сб. науч. тр. Вып. 22. Ставрополь, 2017. С. 49-56.
- Глазков А.П. Эсхатологическая историософия и ее онто-феноменологическое измерение: монография. М., 2015. 216 с.
- Бибихин В.В. Узнай себя. СПб., 1998. 577 с.
- Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого//Бердяев Н.А. Диалектика божественного и человеческого. Сочинения. М.; Харьков, 2003. С. 341-500.