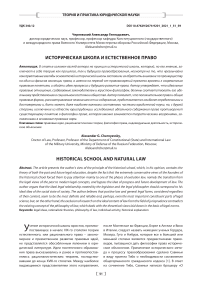Историческая школа и естественное право
Автор: Чернявский Александр Геннадьевич
Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu
Рубрика: Теория и практика юридической науки
Статья в выпуске: 1 (62), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье изложен взгляд автора на принцип исторической школы, который, по его мнению, заключает в себе теорию как прошлого, так и будущего правообразования, несмотря на то, что чрезвычайно консервативные взгляды основателей исторической школы заставили их обратить внимание по преимуществу на один из фазисов эволюции права, а именно на переход от правовоззрений прежнего времени к современным правовым понятиям, и обойти идею прогресса и будущего развития права. Автор утверждает, что идеальные правовые отношения, создаваемые законодателем и юристом-философом, должны соответствовать его идеальному представлению о социальном состоянии общества. Автор полагает, что положительное право и общие правовые формы, рассматриваемые независимо от их содержания, представляются наиболее определенными и достоверными и, быть может, даже наиболее важными составными частыми юридической науки, но, с другой стороны, исключение из области юриспруденции исследований идеального содержания права противоречит существующему понятию о философии права, которая именно занимается теоретическими воззрениями, заложенными в основание правовых норм.
Правовые идеи, рационалистические теории, философия права, индивидуальная деятельность, историческое объяснение
Короткий адрес: https://sciup.org/14120364
IDR: 14120364 | УДК: 340.12 | DOI: 10.47629/2074-9201_2021_1_51_59
Текст научной статьи Историческая школа и естественное право
Учение исторической школы юристов, противопоставившее в начале XIX-го столетия теории естественного, или рационального права – закономерное и преемственное развитие правовых идей, не представляется обособленным явлением в юридической литературе. Идеи постепенного образования права высказывались и ранее и противопоставлялись рационалистическим теориям, господствовавшим до конца XVIII-го столетия. Между наиболее выдающимися представителями этого направления, после Монтескье во Франции, Бэрке в Англии и Вико в Италии, следует назвать немецких ученых Гердера, Мозера, Гуго и Нибура, которые все в большей или меньшей степени являются предвестниками правоведов, пытавшихся дать философии права историческое объяснение. Применение исторического метода к процессу правообразования сделано Савиньи в виду проекта Тибо о необходимости составления общегерманского гражданского кодекса [1]. В ответ на сочинение Тибо, Савиньи написал брошюру «О призвании нашего времени к законодательству и науке права» (1814), в которой излагал личные взгляды на образование правовых идей [2]. Основные мысли этой брошюры, в которой теория исторической школы впервые нашла свое полное выражение, получили дальнейшее развитие в журнале, основанном Сави-ньи в 1815 году с Эйхгорном и Гошеном, а затем в сочинениях последних по римскому праву. Ближайший последователь Савиньи Пухта, справедливо считается вторым основателем школы, но он оказал сильное и не особенно благотворное влияние на Савиньи, так как в своей теории обычного права чрезмерно систематизировал более широкие взгляды учителя [3].
Теория, выработанная Савиньи, Пухтой и их последователями, по своему значению, отодвинула на задний план второстепенный вопрос о новом кодексе, который не забыт только потому, что дал толчок для развития идей, имеющих несравненно более общий интерес. Возникшая школа, противополагая идею исторического правообразования теории, признававшей существование неизменных юридических норм, вытекающих из народного духа, наносила удар не только старинному естественному праву и всем рационалистическим учениям XVIII-го века, но подорвала авторитет и более усовершенствованной теории естественного права, выработавшейся (у юристов) под влиянием философии Канта и сочинений его многочисленных учеников. Это учение, имевшее в Германии еще до половины XIX-го столетия значительное число сторонников, создало целый ряд своеобразных систем естественного права, признававших согласно формуле Канта, целью права создание условий, при которых свобода одного могла совмещаться со свободой всех и каждого [4]. На этом одном положении, получившем название принципа совместного существования, Кант и его последователи стремились построить все право. Понятая таким образом свобода признавалась прирожденным правом человека, и все, что было направлено к ее обеспечению, считалось чуждым юридических норм.
Из этого права вытекают все права человека на свою собственную личность. Это права абсолютные, которые обеспечивают уважение к моральной и физической личности, т.е. к его телу, чести, внешней свободе, свободе совести и мысли. Все другие права, обусловленные фактическим приобретением – есть права гипотетические и производные. Спорным в этих положениях являлся лишь вопрос о праве собственности, в котором некоторые видели абсолютное право, вытекающее из свободы, между тем как другие, например Гро, признавали в нем право гипотетическое, в силу того, что оно относится к внешним предметам и обусловлено фактическим владением. Все остальные юридические нормы и институты были признаны вытекающими производным путем из договора.
Так, например, право наследования законного наследника, брак и семья имеют основанием договор. Брак может рассматриваться как союз, имеющий целью осуществление наиболее совершенной совместной физической и духовной жизни и создание семьи, или как союз, основанный исключительно на взаимных отношениях супругов. С первой точки зрения законным браком может быть признано только единобрачие; со второй, которую разделяет Гро, являющийся в этом вопросе последователем Фихте, все союзы, до временного брака включительно, несмотря на его безнравственность, должны признаваться не противоречащими идее права, под условием согласия сторон. Равным образом единственной основой государства является безмолвный, но необходимый договор, который находит свое выражение в самом принципе права, утверждаемом государственной властью путем принудительной силы. Деятельность государства ограничивается юридической областью и должна быть направлена лишь к осуществлению принципа совместного существования и к охране вытекающих из этого принципа правовых отношений. Из этого следует, что задачи государства сводятся к охране свободной индивидуальной деятельности и к ограждению свободы всех от каких-либо на нее посягательств, но вне этой узкой сферы деятельности государство не может оказывать никакого принудительного действия ни в области общих интересов, ни в области общественного развития. Правда, некоторые писатели пытались оправдать известное вмешательство государства и в эту заветную сферу на том основании, что такое вмешательство косвенным образом ограждает действительные права и дает им прочное основание. Но наиболее распространенное мнение отрицает государственную компетенцию в этой области, где в соответствующее время она особенно признана и считается необходимой. Эту теорию развивал в начале XIX-го столетия Г. Гумбольдт в своем сочинении «О пределах вмешательства государства», сочинении в котором он не отступает перед самыми крайними последствиями ограничения государственной деятельности лишь правом охранять индивидуальную свободу [5].
Эта новая теория естественного права, наиболее крупные штрихи которой здесь лишь намечены, основана хотя и на принципе верном самом по себе, но имеющем совершенно отрицательное и формальное значение. Так об этом новом естественном праве пишет в своих работах Шталь [6]. Действительно, нельзя не признать, что право заключается в свободе каждого, ограниченной свободой всех. Но вопрос состоит в том, чтобы определить границы этой свободы, так как именно они составляют объект всех юридических норм. Между тем формула естественного права не дает никаких указаний по этому поводу и оставляет неопределенным все содержание права.
Она, также как и вытекающее из нее естественное право, не считается с необходимыми жизненными отношениями, хотя только на основании этих отношений и может быть упорядочена человеческая деятельность. В действительности эта формула вне ее чисто формального смысла, как основа права, имеет значение только потому, что является признанием политического догмата XVIII-го века о равенстве всех перед законом, и в сущности служит лишь как бы переводом этого догмата на философский язык. Равным образом и построенное с таким трудом на этой основе, столь логическое с внешней стороны, право сводится к признанию главных политических и экономических идей конца XVIII-го начала XIX-го столетий и в особенности идей, касающихся роли государства.
Теория, изложенная Савиньи с необыкновенной широтой взглядов в его первых сочинениях, противопоставляла чисто рационалистическому направлению юридической науки идею исторического и преемственного образования права, которое находится в тесном соответствии с характером создавшего его народа. Савиньи называет противников этого взгляда антиисторической школой: они стремятся доказать, что естественное право есть нечто неизменное и абсолютное, вытекающее из здравого смысла человека.
По мнению прежней школы, каждая эпоха создает себе произвольно хорошие или дурные жизненные условия, соответственно степени своего развития и своим силам.
Если это воззрение правильно, то нет никакой необходимости в изучении истории, которая в таком случае имеет интерес лишь как сборник политикоморальных фактов и не дает никаких практически полезных сведений.
Историческая школа, наоборот, не признает обособленного человеческого существования, а видит в нем часть более обширного целого, и потому рассматривает каждого отдельного индивидуума, как члена семьи, народа, государства. Согласно ее учению, каждый век находится в неразрывной связи с предшествующим веком, от которого он наследует известное положение вещей. Это положение является одновременно необходимым и свободным; оно необходимо, потому что не может быть произвольно установлено или изменено, и свободно, потому что сложилось независимо от каких-либо внешних предписаний, а явилось эманацией народного духа и находится в состоянии постоянной эволюции. Соответственно этому учению, история есть свидетель прошлого, который дает возможность понять настоящее. Мы не можем принять или отвергнуть произвольно известные исторические условия прошлого, так как они являются роковой необходимостью. Правда, иногда мы ошибаемся и принимаем за истинный мировой порядок создания нашего воображения, предпо- лагая, что мир начался с нашей мыслью, но это иллюзия, которая не может изменить природу вещей.
Эти идеи применимы в особенности к праву. Право есть исторический продукт народной жизни. Каждая историческая эпоха, изучаемая на основании документальных данных, свидетельствует о существовании языка, нравов и известных правовых понятий, наиболее соответствующих характеру данного народа. Подобно языку и нравам, право образуется и развивается постепенно и закономерно, в зависимости от того, как складываются обстоятельства, в которых выражается народное сознание. Эта органическая связь права с существом народного духа становится очевидной при изучении наиболее важных юридических институтов, каковы, например, семья и собственность. Полного развития эти институты достигают разнообразными путями в зависимости от культурного состояния страны.
В младенчестве народов связь, соединяющая членов нации, крепче и чувствуется сильнее. Юность народов бедна идеями, но в эту эпоху ясно сознаются существующие отношения, которые служат предметом более подробного изучения, чем в периодах высшего развития, когда, вследствие постепенного усложнения этих отношений, в них трудно разобраться. В это первобытное время образуется обычное право, вытекающее непосредственно из народного сознания. Ряд единообразных актов, в которых оно содержится, указывает именно на этот источник его образования и устраняет предположение о том, что оно сложилось в силу многочисленных и аналогичных, часто случайных, частью обусловленных обстоятельствами постановлений.
С развитием культуры обычное право оказывается недостаточным, и юридическое сознание народа осуществляется другими органами. Неравномерное умственное развитие, разнообразие знаний, занятий и условий жизни разделяют людей и делают общее сознание менее чувствительным и менее ясным. Пра-вообразование, как непосредственное выражение народного духа, становится затруднительным, и то, что исполнялось прежде сообща, делается функцией особого класса людей – юристов. Эти люди, посвятили развитию права свой личный труд и являются в этой функции выразителями народного правосознания.
Законодательство и науку составляют в эту эпоху органы народного духа, призванные удовлетворить нарождающиеся потребности путем создания новых норм, или отмены старых. С этого времени право получает двойную жизнь: как составная часть общей народной жизни, с которой она не теряет связи, и как особая отрасль науки в руках юристов и законодателей.
Конечно, законодательство есть наиболее ясный признак права. Однако, как бы ни были ясны и достоверны нормы положительного права, они не всегда настолько определенны, чтобы устранить возможность уклонения от их требований. Поэтому появляется необходимость дать им этот внешний знак, при существовании которого они были бы вне всяких сомнений. Кроме того, закон дополняет обычное право и содействует его последовательному развитию. Он полезен и даже необходим, когда перемена нравов, воззрений и потребностей требует соответствующих изменений в правовых отношениях; так как эти изменения совершаются быстрее и более совершенным образом путем закона, чем путем обычного права, эволюционирующего весьма медленно и страдающего неопределенностью. Законодательство может оказать услуги для упорядочения взаимоотношений правовых норм, применяемых к различным юридическим институтам. Но каково бы ни было значение закона, он является всегда лишь иной формой обычного права. Законодатель не стоит вне народа; наоборот он член нации и в деле правообразования является лишь выразителем ее духа, взглядов и потребностей, сохраняя этот характер независимо от формы, данной конституцией страны законодательной власти. Таким образом, можно сказать, что положительное право вначале есть всегда право обычное или народное, которое иногда весьма рано начинает пополняться и сохраняться законодательством. Два новых органа, приобретаемые правом с развитием культуры, – законодательство и наука, – из которых каждый имеет самостоятельное существование, могут, поглотив народное право, остаться единственным выражением юридического порядка. В особенности законодательство, благодаря своей принудительной силе, может легко быть принято за исключительный источник права, за второстепенные его элементы, которые лишь содействовали образованию юридических норм. Но это поглощение законодательством первичного и даже научного права юристов не должно затемнять действительного источника правовых понятий, которые всегда вытекают косвенно или непосредственно из народного сознания, смотря по тому, выражается ли оно в обычном праве, в законодательстве, или в научном праве. Эти идеи развивались Савиньи в его первом небольшом сочинении и в первом томе «Системы римского права» (Предисловие и глава II) [7].
Первое практическое применение идеи исторического правообразования было сделано исторической школой к изучению обычного права, которому посвятил свое главное сочинение Пухта. Пухта и Савиньи признают высшее значение обычного права перед законом не только в древности, но и во все времена. В нем, по их мнению, народное правосознание проявляется наиболее непосредственно, между тем как в законе оно выражается через законодателя и в силу необходимости и носит отпечаток его личных взглядов. Сущность права вытекает именно из коллективного правосознания, и в нем обычное право черпает свою принудительную силу. Кроме того, обычное право, как имеющее преимущественное перед законом значение, может всегда изменить или даже отменить его, как устаревший; и законодатель превышает свои полномочия, ограничивая произвольно действие этого права [7, 8].
Рассматривая положения, предлагаемые исторической школой, нельзя не рассмотреть и ее критику. Представленная исторической школой идея исторического правообразования была принята наиболее выдающимися представителями юридической науки в Германии почти без возражений, но позднее, не отвергнув всецело теории Савиньи, подвергло ее всесторонней критике и указало ее слабые стороны и недостатки. В настоящее время заблуждения и преувеличения основателей школы и особенно Пухты, уже давно обоснованы и в общем сводятся к следующим против них возражениям. Историческая школа не обратила должного внимания на истинный характер положительного права и на его ближайшие и настоящие источники и, признав народное правосознание сущностью права, предшествующей нормам обычного права и закону, тогда как только при их посредстве и создается положительное право, она преувеличила значение обычного права в ущерб закону и недостаточно вникла в значение законодательного элемента в эпоху более или менее высокого состояния культуры, когда обычное право уже не могло нормировать и осуществлять необходимые реформы, требуемые осложнившимися жизненными условиями. Основатели школы поняли, что на известной ступени развития народное правосознание было не в состоянии упорядочить всю область правоотношений, и поэтому признали три источника права: обычное право, закон и право юристов. В настоящее время совершенно основательно признаются только два первые, что же касается до права юристов, то оно чаще рассматривается как вид обычного права (в том числе вопрос здесь стоит о судебном прецеденте). Но как бы ни была серьезна эта критика, она относится главным образом к технической стороне учения. Из представленных же исторической школой двух главных идей: идея эволюции права, которая и сегодня признается большинством юристов; идея права, вытекающего из народного сознания, имеет меньшее значение, но в ней выражено верное до известной степени положение и только вследствие чрезмерного значения, приданного этой идее исторической школой, она подверглась справедливым нападкам.
Идея эволюции уже давно известна по естественным и историческим наукам, но в применении к праву она впервые была выдвинута Савиньи. В своем первом сочинении и в статье первого номера своего журнала Савиньи высказал главные положения своей теории, а именно идеи об аналогичном с развитием языка эволюционном развитии права и об органической солидарности юридических институтов с существом народного духа.
Подобно всем другим сторонам народной жизни, пишет Савиньи, право не знает абсолютного покоя и находится в постоянном развитии и движении, подчиняясь, также, как и прочие отрасли народной деятельности, закону внутренней необходимости и являясь в каждом веке продуктом эволюции прошлых веков. В первом своем сочинении Савиньи намекает на идею эволюции, но не останавливается на ней и заявляет, что изыскания его ограничиваются историческим человеком и областью права.
Гениальная мысль основателя школы получила удачное освещение в трудах Меркеля, который вместе с тем сопоставил выдвинутую Савиньи идею развития права с учением Дарвина о развитии видов. Идея эволюции, говорит Меркель, не изменяется в зависимости от того, излагает ли ее юрист или естествоиспытатель. В юридических формах жизни Сави-ньи видит продукт эволюции, подобно тому, как естествоиспытатели видят его в растительной и животной жизни. Учение Савиньи в своих главных чертах аналогично с учением эволюционной теории в естественных науках, которая также всегда и везде признает развитие, движение и изменяемость и вместе с тем непрерывность, зависимость и преемственность. Все эти черты в одинаковой степени характеризуют эволюцию, как в области естествоиспытания, так и мысли. В теории докторов естественного права, пишет далее Меркель, характеристические состояния каждой эпохи следуют одно за другим, подобно картинкам диорамы, вводимых в рамки невидимой рукой в произвольном порядке. Идеям неизменных юридических институтов или произвольной реорганизации юридического порядка соответствуют в области естественных наук теория о неизменяемости форм органического мира и учение о скачках в природе, согласно которому известные земные пертурбации должны были создавать новые организмы [9].
Теория Савиньи правильно, но недостаточно понята Адольфом Меркелем в двух отношениях: исходной точкой его учения является почти исключительно идея непрерывности, связь настоящего с прошлым, но он не уделяет внимания и в особенности не придает должного значения появлению новых жизненных ростков, новых успехов, которые затем развиваются эволюционным путем. Это самый серьезный пробел в его теории. Во-вторых, Савиньи произвольно ограничивает предмет изучения юридической эволюции римским и германским правовыми учреждениями. Подобное ограничение не может быть оправдано и справедливо порицается и прошлой, и современной критикой. В настоящее время изучение истории права не только не ограничивается право-воззрением цивилизованных народов, но даже правом исторических рас, для выяснения которого наука прибегает к сравнительному этнографическому методу. Этнографические исследования пополняются, в свою очередь, данными политической экономии, статистики и всех других социальных наук, в большей или меньшей степени связанных с юриспруденцией. Изучение только римских и германских юридических институтов не дает еще возможности понять весь ход развития правовой жизни, а равным образом уяснить значение фактов и законодательства, путем которых она развивалась и продолжает свое поступательное движение. Лишь научным изучением истории, догмы права и социальных наук можно надеяться постигнуть истинный характер этих фактов и законов и до некоторой степени предвидеть будущее. Существенно важным элементом в данном контексте является выяснение не всеобщей истории права, а истории права, его развития, правовых традиций, социальных условий появления в конкретном государстве и влияние на нее правовых учений других цивилизаций и их синтезированное использование.
Из всех идей исторической школы наиболее оспаривается идея права, как продукта народного духа и вытекающая отсюда теория о значении и взаимоотношении закона и обычного права. В конце XIX-го века, тогда молодой писатель Бергбом, критикуя теорию исторической школы, изложил подробно все возражения, которые были ей сделаны. По мнению Бергбома, Савиньи и Пухта недостаточно определили сущность народного правосознания, из которого вытекает все право. Это сознание может быть понято в двояком смысле: или в смысле суждения о каком-нибудь фактическом положении и признании этого положения нравственным или безнравственным, применимым или неприменимым, или в более широком смысле сознательности, противопоставленной бессознательности. Обыкновенно оно понимается в первом смысле, т.е. в смысле этического сознания. Эта теория Савиньи и Пухты возбуждала и возбуждает периодически горячие споры. Некоторые ученые стремились доказать, что народное сознание или общая воля, которую с ним отождествляли, имеет собственное существование, столь же реальное, как и индивидуальное сознание. Пост утверждал даже, что психология народа яснее и потому легче поддается изучению, чем индивидуальная психология. Но Берг-бом говорит, что эти утверждения построены чисто на априорных данных, и признание народного правосознания есть идея естественного права. Таким образом, историческая школа и ее последователи впадают в ошибку этого права, так как суть дела не изменяется от того, что основанием юридического порядка будут признаны разум, идея, правовое или общественное сознание [10].
Отличительными чертами всех теорий естественного права являются с одной стороны недостаточность их объективного обоснования, а с другой – признание правовыми источниками элементов, которые, не имея никакого положительного значения, не могут создать юридического порядка.
В действительности народное сознание может выражаться лишь через сознание индивидуальное и про него можно сказать то, что Пухта сказал про разум, т.е. что это лист белой бумаги, на котором каждый может писать, что ему угодно. Последователи исторической школы тщетно стремятся дать этому понятию реальное значение, стараясь доказать солидарность между индивидуальным и общественным сознанием. Из данных опыта, наоборот, можно утверждать, что социальные отношения понимаются различно не только отдельными индивидуумами, но и группами народа, что, впрочем, не представляет ничего удивительного, так как весьма часто сами юристы расходятся во мнениях относительно наиболее важных юридических вопросов. Но допустив даже, что коллективное сознание существует, надо признать, что оно не поддается никакому определению. По удостоверению самих основателей школы, источниками его являются загадочные, молчаливые силы, действующие в народе. Следовательно, начало его недоступно наблюдению, и вся теория Савиньи и Пухты основана, следовательно, на ложной психологии. В действительности народное правосознание может быть лишь отдаленным источником права, одним из бесчисленных факторов, влияющих на его образование. Содержание правовых норм обусловлено столькими причинами, что перечисление их представляется невозможным. В процессе их образования несомненно имели влияние нравственное и религиозное сознание, разум, политические цели, оборона против злоупотребления силы, защита слабых и другие причины, которые, однако не составляют прямых источников права. Чтобы известные нормы стали правом, они должны приобрести значение положительных законов. Являясь в начале в форме простых идей, моральных, рациональных и технических правил, вытекающих из опыта, нормы эти входят затем в правовую область и становятся правилами поведения, имеющими обязательную силу. Этот переход из области моральной в область юридическую совершается путем внешней санкции [10].
Приведенную критику нельзя не признать чрезмерно строгой. И в настоящее время теория исторической школы в ее целом не находит ярых защитников, но тем не менее она оставила глубокий след в науке и ее влияние сказывается даже на писателях, подвергающих справедливой критике некоторые из ее положений. Предлагаемая исторической школой идея эволюции признается почти всеми юристами, и даже гораздо более спорная теория народного правосознания в действительности отвергается большинством из них лишь вследствие своей неопределенности и притязаний основателей школы признать народное правосознание, по крайней мере внешним образом, за формальный источник права. В сущности современные ученые не отвергают общественного сознания, как одного из факторов правообразования и даже, согласно с воззрениями исторической школы, признают за этим фактором преобладающее значение в первобытные времена образования обычного права. Так Безелер в своей книге «Обычное право и право юристов» допускает, что в первичной стадии правообразования юридические учреждения являются продуктом народного духа, но он отвергает народное правосознание, как единственный источник правовых институтов в позднейшем периоде развития даже обычного права, так как некоторые его нормы носят след влияния иных факторов [11].
Ту же мысль развивает Цительман в своем сочинении об обычном праве, его обязательности и влиянии на него ошибки. Исследователю, говорит этот автор, не останавливающемуся на подробном изучении жизненных явлений, может показаться, что положительное право и народное сознание солидарны, что каждый народ создает себе правовые нормы, соответствующие его способностям и потребностям, и что законодательство является лишь орудием для выражения уже существующих в народном сознании правовых идей. Однако, при более внимательном изучении вопроса, дело представляется в ином виде. В каждом периоде развития положительного права можно констатировать наличие разнообразных норм, не согласованных с духом нации. Теория Сави-ньи и Пухты подчиняет разные эпохи народной жизни одному закону, не различая младенчества народов, в котором правовые и религиозные понятия еще не дифференцированы от того времени, когда они уже разделены, и не считаясь с тем фактом, что эволюция человеческих идей есть последовательный, еще не окончившийся переход от бессознательного к сознательному. Идея и положения исторической школы могут быть применимы к первобытному времени, когда юридическое сознание является как бы инстинктивным и неизбежно сливается с моральным сознанием. Это несомненно эпоха общего правосознания, так как жизненные отношения настолько просты и однообразны, что индивидуальные чувства почти у всех членов нации приблизительно тождественны. Другой вопрос найти в развитой цивилизации максимальное приближение или те ценностные ориентиры, которые сближают правосознание большинства.
Но положение изменяется в позднейшее время, когда правовые и моральные понятия разделяются. Тогда право образуется не мирным путем, как продукт народного сознания, а в борьбе противоположных и сталкивающихся интересов и в двух формах – обычного права и закона [12].
Эртман, в сочинении «О народном праве», написанном позднее, чем работа Эрнста Цительмана, отводит более широкое место идее общественного сознания, которую он отождествляет с идеей коллективной воли, признавая в народе органическое существо, одаренное известными психическими свойствами. Правда, этот взгляд отвергается многими писателями, вследствие антиметафизических тенденций, столь распространенных в конце XIX-го столетия, но зато он дает возможность избегнуть субъективизма, так как случайное в индивидуальных сознаниях компенсируется в массе и в результате является выражением общей воли. Ошибка исторической школы, заключается лишь в том, что она представляла вещи слишком просто. Она не обратила должного внимания на факты развития общества, обусловленную этим развитием постепенную дифференциацию его членов в политическом, экономическом и интеллектуальном отношении, вследствие чего образование общего сознания и единообразных юридических норм становится более затруднительным, чем думали Савиньи и Пухта.
В маленьких общинах, как например, в древнем Риме, у Галлов, быть может позднее в маленьких швейцарских кантонах единообразие социальных отношений и культуры могло дать возможность развитию общего правосознания и соответственных ему юридических институтов. Но с увеличением размеров государств, с дифференциацией интересов и с образованием политических и религиозных партий, народное сознание теряет свою общность, общество не может более нормировать все социальные отношения, и правообразование в большей своей части становится функцией государственной власти. Впрочем, в настоящее время в виду притязаний закона на преобладающую в правообразовании роль, представляется излишним защищать его значение, а скорее следует напомнить законодателям учение исторической школы и необходимости влияния общественного сознания на содержание права в его целом и соответствии этого права со всем нравственным складом народа.
Без сомнения, законодатель, благодаря какой-либо гениальной индукции, может иногда опередить свой народ и содействовать развитию зарождающегося народного чувства, но случается также нередко, что в силу своей верховной власти он уклоняется от осуществления сознаваемых нацией идей справедливости или даже становится по отношению к ним в откровенное противоречие. Целью законодательных органов должно быть стремление достигнуть соответствия права с народным правосознанием, так как в противном случае, при неспособности государства восстановить равновесие между главными юридическими институтами и народным духом, единственным выходом из этого положения становится революция. Следовательно, законодатель должен помнить, что его власть (в принципе безграничная) имеет пределы, которые он должен видеть и не переступать, что он лишь представитель и выразитель народной воли, который в осуществлении возложенных на него законодательных функций обязан стремиться к удовлетворению как экономических интересов, так и нравственного сознания общества [13].
Наиболее знаменитый из немецких «романистов» Виндшейд в речи, произнесенной им в 1884 году по случаю избрания его ректором Лейпцигского университета, признал себя последователем исторической школы. Он сказал, что мнение о существовании права, как продукта разума не изменяющегося, неподвижного и годного для всех времен и народов, разделялось не только профанами, но долгое время преобладало даже в науке. В настоящее время несостоятельность этого мнения осознана, и право признается продуктом эволюции, являясь в каждую данную эпоху выражением умственной жизни народов. Оно осуществляется в создавшем его обществе, которым управляет, и имеет своим первоисточником разум и общее народное правосознание. Правда, у каждого индивидуума есть собственные убеждения, от которых он отказывается с трудом, но общество признает эти убеждения как истину только в таком случае, если он сумеет убедить его в их истинности и затем ввести в обычное право или закон. Таким образом правом признается не то, что считается за таковое, отдельным лицом, а то, что соответствует народным правовоззрениям [14]. Из вышеизложенных взглядов ученых видно, что юристы, отвергающие коллективное сознание в образовании права в том преувеличенном виде, который придала ему историческая школа, должны, однако, признать, что оно находится в соответствии с некоторыми моральными элементами правовых учреждений. Что же касается до полного отрицания идеи народного правосознания, то сторонники его останавливаются лишь на положительном праве, оставляя в стороне его первоисточник, – право идеальное. Так Цительман не отвергает возможности научного применения идеи народного сознания. Он допускает реальное существование единого понятия, образовавшегося из многочисленных мнений, причем это понятие будет иным, чем сумма составивших его отдельных мнений. Он признает доказанным фактом возникновение в человеческих собраниях известных психических со- стояний, которые не могут быть объяснены настроением составляющих его людей. Но он лишь утверждает, что эти умозрения не применимы к правовой области, что роль юриста должна ограничиваться изучением характерных черт, на основании которых судья может признать за известной нормой юридическое значение, и исследованием формальных условий, благодаря которым эта норма, – независимо от ее содержания, справедливого или несправедливого, соответствующего или не соответствующего цели, согласного или несогласного с общественным сознанием, – стала правовой нормой [12].
Тот же взгляд высказывает Бергбом. Он признает лишь положительное право и ставит себе задачей опровергнуть теорию естественного права во всех ее формах, причем включает в теорию не только естественное право, но и различного рода спекулятивные учения, трактующие об идеальном праве будущих времен. Бергбом не отрицает пользы и даже необходимости этих учений, но признает их не относящимися к юридической науке, как бы широко она не понималась. По его мнению, историческая школа, оспаривая теорию естественного права, должна была прийти к заключению, что иного права, кроме положительного, не существует, чем устранилось бы совершенно ее учение о народном правосознании, которое, являясь лишь элементом содержания права, имеет исключительно философское и то весьма сомнительное значение. Бергбом считает необходимым усовершенствование правовых норм и предоставляет осуществление этой задачи политической науке, но утверждает, что все идеи, принципы и убеждения, являющиеся стимулами этого усовершенствования, не относятся к юриспруденции, а составляют так называемую политику права [10].
Перенесенный на эту позицию спор, в сущности сводится к спору о словах, так как Бергбом и другие писатели, исключающие идеалы права из юридической области, не отрицают значения содержания права, но лишь признают исследование этого предмета не принадлежащим юридической науке.
Без сомнения, нельзя игнорировать значение формальной стороны права и изучения тех условий, путем которых известные идеальные нормы вошли в положительное право и получили обязательную силу. Эта отрасль науки, на которую, быть может, юристы не обратили должного внимания, представляет высокий интерес. Но для полноты юридической науки необходимо также изучение сущности, содержания права. Правда, что сами основатели исторической школы в своих положениях не коснулись вопроса о будущем праве. Эта непоследовательность с их стороны объясняется их личными, чрезвычайно консервативными взглядами, которые заставили их обратить внимание по преимуществу на один из фазисов эволюции права, а именно на переход от правовоззрений прежнего времени к современным правовым понятиям, и обойти идею прогресса и будущего развития права. Этот пробел в учении исторической школы находит себе объяснение лишь в ее полемике с теорией естественного права, которая на основании чисто априорных данных доказывала существование идеального права.
Тем не менее принцип исторической школы заключает в себе теорию как прошлого, так и будущего правообразования, и Бергбом напрасно доказывает, что всякие исследования по этому предмету могут привести лишь к учению естественного права. Один из писателей того времени, Нейкамп, в своем «Введении к истории эволюции права», справедливо замечает, что вопрос о развитии будущего права имеет очень мало общего со старинным естественным правом и, наоборот, необходимым образом вытекает из теории исторической школы. Поэтому представляется непонятным, почему ученые этой школы не занялись его разработкой. По мнению Нейкампа, юридическая наука, отказавшись от умозаключений относительно содержания права, признала себя несостоятельной [15].
Несомненно, что положительное право и общие правовые формы, рассматриваемые независимо от их содержания, представляются наиболее определенными и достоверными и, быть может, даже наиболее важными составными частыми юридической науки. Но, с другой стороны, исключение из области юриспруденции исследований идеального содержания права противоречит существующему понятию о философии права, которая именно занимается теоретическими воззрениями, заложенными в основание правовых норм. Само название философии права подверглось совершенно неосновательным нападкам Бергбома, так как дело заключается лишь в том, чтобы точно определить предмет и значение этой науки.
Бóльшая часть правовых норм имеет чисто формальный характер и заимствует свое содержимое из условий и реальных отношений социальной жизни. Следовательно, идеальные правовые отношения, создаваемые законодателем и юристом философом, должны соответствовать его идеальному представлению о социальном состоянии общества. Подобные умозаключения в области теории права представляются весьма сложными, так как имея целью создание новых правовых отношений и вместе с тем преобразование общества, они требуют содействия не только юридических, но и социальных наук. Можно сказать, что эти умозаключения есть продукт философско-социальной мысли, применяемой к правовым понятиям. И отсюда то важное значение, которое придавалось до сих пор философии права. Кроме того, следу- ет заметить, что предложение Бергбома заменить название философии права – политикой права вряд ли может быть признано удачным, так как, кроме политической науки, к юридическим наукам должны быть отнесены, по крайней мере, моральная философия и политическая экономия. Но во всяком случае, какое бы название не присвоить философским правовым теориям, нельзя отвергать их значения, в виду того влияния, которое они оказывали во все времена на праворазвитие, не исключая и той эпохи, когда, являясь в несовершенной форме теорий естественного права, они не сознавали еще истинного характера юридического порядка и его тесной зависимости от всего социального строя.
Список литературы Историческая школа и естественное право
- A.F. J. Thibaut, Uber die Nothwendigkeit eines allgemeinen burgerlichen Rechts fur Deutschland, Heidelberg, J.C.B. Mohr,(1814)1840.
- Fr. C. v. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, Freiburg, Akademische Verlagsbuchhandlung von J. S. B. Mohr, Neudruck nach der dritten Auflage, (1814) 1840.
- G. Fr. V. Puchta, Das Gewohnheitsrecht, Erlangen, in der Palm’schen Verlagsbuchhandlung, Erster Theil, 1828; Zweiter Theil, 1837,
- Immanuel Kant, Georg Samuel Albert Mellin, Principes métaphysiques du droit, Paris, Ladrange, 1837; K.H. Gros, Lehrbuch der philosophischen Rechtswissenschaft oder des Naturrechts, 1802, 6-te Ausgabe, Stuttgart und Tubingen, J.G. Cotta, 1841; A.Bauer, Lehrbuch des Naturrechts, 1803, 3-te Ausgabe, Gottingen, Vandenhoeck und Ruprech, 1825; Karl Wenzeslaus Rodecker Rotteck, Lehrbuch des Vernunftrechts und der Staatswissenschaften, 4 Theile, Stuttgart, 1829-1835, 2-te Ausgabe, 1841.
- G. Gumboldt, Essai sur les limites de l’action de l’Etat, Paris, 1867; Вильгельм фон Гумбольдт, О пределах государственной деятельности, Челябинск, Социум, 2009.
- F. J. Stahl, Die Philosophie des Rechts, Heidelberg, im Verlag der akademischen Buchhandlung von J. C.B. Mohr, Zweiter Band, 1856; F. J. Stahl, Encyclopedie der Rechtswissenschaft, 5-ne Ausgabe, Leipzig, 1890, S.S. 67-72;
- Fr. C. v. Savigny, System des heutigen romischen Rechts, Erstes Band, 1840, Vorwort, Cap. II.
- G. Fr. V. Puchta, Das Gewohnheitsrecht, Erlangen, in der Palm’schen Verlagsbuchhandlung, 1828, II, S. 171.
- Adolf Merkel, Über den Begriff der Entwicklung in seiner Anwendung auf Recht und Gesellschaft, Zeitschrift für das privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, 2 Teile in 1, Band 3, Wien, Adolf Holder, 1876, Seite 532-625 und Band 4, Wien 1877, Seite 1 – 20.
- Karl Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie; Kritische Abhandlungen, Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, Band I, 1892, S.S. 50-76, S. 143.
- G. Beseler, Volksrecht und Juristenrecht, Leipzig, Weidman, 1843, S. 53.
- E. Zitelmann, Gewohnheitsrecht und Irrthum, Archiv für die zivilistische Praxis, Band 66, Freiburg und Tübingen, 1883, S. 323 – 468, S.S. 26, 27.
- P. Oertmann, Volksrecht und Gesetzesrecht: Vortrag gehalten in der gehe-stiftung zu ..., Dresden, Zahn & Jaensch, 1898, S. 3.
- Windscheid, Recht und Rechtswissenschaft (Rectoratswechsel an der Universitat, Leipzig, 1884.
- E. Neukamp, Einleitung in eine Entwicklungsgeschichte des Rechts, Berlin, Carl Heymanns, 1895.