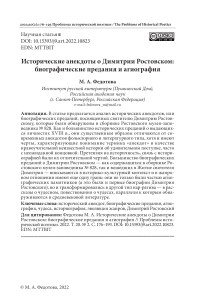Исторические анекдоты о Димитрии Ростовском (биографические предания и агиография)
Автор: Федотова Марина Анатольевна
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.20, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье предлагается анализ исторических анекдотов, или биографических преданий, посвященных святителю Димитрию Ростовскому, которые были обнаружены в сборнике Ростовского музея-заповедника № 828. Как и большинство исторических преданий о выдающихся личностях XVIII века, они существенным образом отличаются от современных анекдотов фольклорного и литературного типа, хотя и имеют черты, характеризующие понимание термина «анекдот» в качестве нравоучительной неизвестной истории об удивительном поступке, часто с неожиданной концовкой. Претензия на историчность, связь с историографией были их отличительной чертой. Большинство биографических преданий о Димитрии Ростовском - как содержащихся в сборнике Ростовского музея-заповедника № 828, так и вошедших в Житие святителя Димитрия - вписываются в историко-культурный контекст и в жанровом отношении имеют еще одну грань: они не только были частью агиографических памятников (а это были и первые биографии Димитрия Ростовского), но и трансформировались в другой тип нарратива, в рассказы о чудесном, повествования о чудесах, параллели к которым обнаруживаются в средневековой литературе.
Исторический анекдот, биографические предания, агиография, чудеса, историография, эволюция жанров, димитрий ростовский
Короткий адрес: https://sciup.org/147237933
IDR: 147237933 | DOI: 10.15393/j9.art.2022.10823
Текст научной статьи Исторические анекдоты о Димитрии Ростовском (биографические предания и агиография)
Р укопись Ростовского музея-заповедника № 828 (далее —
РМЗ № 828) не раз привлекала внимание исследователей творчества Димитрия Ростовского. Впервые на нее обратил внимание викарий Ярославской епархии Амфилохий Углич-ский1, опубликовавший в «Чтениях в Обществе любителей духовного просвещения» из этой рукописи ряд сочинений митрополита Димитрия2. А. А. Круминг, датировавший данный сборник 1790-ми гг. и подробно описавший его, отметил, что «переписчик ростовского сборника был знаком с Собр. 17863 и старался подобрать, прежде всего, произведения Димитрия, отсутствующие в печатном тексте Собр. 1786, а также относящиеся к Димитрию тексты» [Круминг: 70]. Среди них сочинения различных жанров, например, конклюзия — печатное приветствие Димитрию Ростовскому, поднесенное ему Славяно-греко-латинской академией 26 декабря 1707 г. в связи с окончанием работы над Четьими Минеями [Федотова, 2010]; псальмы, посвященные святителю Димитрию; эпитафия, написанная Стефаном Яворским и произнесенная им при погребении ростовского митрополита4. Особенно выделяются, на наш взгляд, «анекдоты (в старинном смысле слова) о святом Димитрии Ростовском» [Круминг: 82] — всего семь анекдотов5; они помещены на лл. 219–221 об., не имеют заглавия, различны по объему — от трех строк до целых рассказов.
Совершенно очевидно, что эти тексты существенным образом отличаются от жанра современного анекдота — как фольклорного, так и литературного типа (см.: [Курганов], [Чистякова: 81], [Абильдинова: 5]), и близки к биографическим преданиям об исторических личностях, в том числе о русских писателях. Они «появились в первой половине XVIII в. и с этого времени активно участвовали в литературном процессе XVIII — нач. XIX в.». Под ними понималась «сначала устная, а затем и письменная фиксация каких-то поступков, высказываний и вообще событий жизни выдающихся людей…» [Дробова: 275–276].
Безусловно, в них обнаруживаются черты, характеризующие понимание термина «анекдот» как краткой, нередко нравоучительной неизвестной (от греч. anekdotos — неизданный) истории, рассказа об удивительном поступке, часто с неожиданной концовкой, но в них не следует искать развлекательнокомического содержания. «Анекдот XVIII столетия был серьезным произведением», относящимся к историографии, и его «следует рассматривать как вид исторического повествования» [Мезин: 18], литература XVIII в. вообще «не была так жестко и непосредственно связана с вымыслом; не фикциональность была основанием для отнесения к литературе тех или других текстов» [Бухаркин: 11]. Наиболее популярный герой исторических анекдотов, или биографических преданий, середины — второй половины XVIII в. — царь Петр I. В рукописи РМЗ № 828 также есть текст, героями которого являются и Димитрий Ростовский, и Петр Великий:
«Во дни святаго Димитрия по царскому повелению вотчины архиерейских домов и монастырей правлѣние имѣли столники6, которые по указу должны были потребными снабдѣвать архиерейские домы и монастыри, но по зависти искони врага многие творили пакости удержанием потребных и насилства грабления, отчего в великом убожестве находился и святаго Димитрия его Архиерейский дом, и заведенная им самим семинария разорилась, якоже сам святый Димитрий к митрополиту новгородскому Иову в своем писании пишет сицѣ: “И аз, грѣшный, волею Господнею на престол Ростовские паствы пришел, начал бых прилагати тщание о учениах и завел бых училище греческое и латинское, и поучилися были ученики лѣта два и вящше, и уже начали были граматику разумети незлѣ, но попущением Божиим сотворшаяся Дому архиерейскому скудость сотвори пре-пяти, и оставишася учения, понеже вознегодоваша питающии нас, аки бы многая исходит на учители и ученики издержка, и уже вся та, чем Дому архиерейскому питатися, от нас отняты суть, не токмо отчины, но и церковныи дани, и вѣнечные памяти, и протчая, и протчая, оскудевшее убо во всем, оскудевшее и во учениях”. Доздѣ писание. В таком нужном и весма убогом состоянии Дома архиерейскаго сам благочестивѣйший монарх Петр Великий по случаю прибытия своего в Ростовѣ довольно приметил, почему святаго Димитрия наединѣ спрашивал, что нет ли обид и притѣснѣний от столника. Но святый Димитрий обид ему от столника не сказал. Однако послѣ того при собрании многих свѣтских и духовных людей государь изволил приказывать столнику таковыми словами: “Естли тебе прикажет архиерей Дом архиерейский перенѣсть на остров, то ты непремѣнно здѣлай”, то есть, чтобы архиерей ни потребовал, то во всем удоволствуй» (лл. 219 об. — 220, № 3)7.
С одной стороны, в предании приведена большая цитата из письма святителя Димитрия Иову Новгородскому от 10 декабря 1706 г.8 о закрытии Ростовской школы, и именно письмо и предполагаемый диалог между царем и митрополитом являются основой нарратива, с другой — героем развязки, автором «неожиданного ответа» становится царь Петр I; и тем самым они изображаются равнозначными участниками предания9.
Как справедливо отметил Е. Курганов, «анекдот может быть <…> необычен, но претензия на достоверность в нем незыблема. Рассказчик делает все для того, чтобы в анекдот, каким бы фантастичным он ни казался, поверили» [Курганов: 11]. Таким образом, историко-культурный контекст для предания очень важен. Здесь повествование может быть прокомментировано следующим образом.
Отсутствие денег на содержание школы, о котором говорится в предании, было связано с тем, что возглавляемый И. А. Мусиным-Пушкиным Монастырский приказ, который заведовал финансированием учебных заведений, мало заботился об их поддержке. Кроме того, скудость Архиерейского дома в данном случае была обусловлена недружелюбными отношениями между ростовским митрополитом и стольником Василием Воейковым. 24 апреля 1702 г. вышел указ, в силу которого всю переписку по сбору доходов с архиерейских и монастырских земель приходилось вести не с воеводами, а с особо назначенными стольниками. Димитрий, бывший в хороших отношениях с воеводою Семеном Воронцовым, теперь должен был вступать во взаимоотношения со стольником Воейковым, который посылал на Димитрия доносы в Москву, особенно за его траты на нужды Ростовской школы [Шляпкин: 298–317].
Эти сложные отношения между стольником и Димитрием Ростовским передают еще два предания из рукописи РМЗ № 828, воссоздавая быт и характеры времени:
«Единою святому Димитрию пришедшу в ростовскую соборную церковь совершати святую литургию, но в тоже самое время и столник начал во своей канцѣлярии, близ соборной церкви имѣющейся, розыск дѣлать и наказывать ранами на правижах, отчего здѣлался крик и плач, что всѣ было весма в соборѣ слышан. Тогда святый Димитрий послал с молением к нему, да престанет поне в святую литургию. Но столник, на-учающ его бесу, не послушал его, тогда архиерей, смутившись, и оставил служение, и изыде вонь из церкви, потом идѣ в село в Дѣмьяны» (лл. 220–220 об., № 4).
«Единою святителю в соборной церкви литургию служащу и поучение к народу сказующу, прилучися быти дщерем столни- ковым, и во в ремя святой литургии и поучения его смѣющихся10.
То святый видѣв, и при окончании литургии, как говорить ему благословение Господне на вас, то он въключил и сие: кроме смѣющихся Того благодатию, и прочая» (л. 220 об., № 5).
Безусловно, нет никаких архивных данных об описываемой в предании встрече Димитрия Ростовского и Петра Великого, как нет свидетельств и о посещении Петром I Димитрия Ростовского в Москве во время болезни митрополита, в результате которого царь отменил свое назначение Димитрия на Тобольскую кафедру сибирским архиереем. Это предание вошло в Житие святителя Димитрия Ростовского, написанное Арсением (Мацеевичем):
«И послѣ посвящения тяжкою болѣзнию одержим бысть, в которой сам его монарх благоволил посѣтити и уразумѣл, что таковая болѣзнь ему приключилася от нѣкоторой печали, которую он ему объявил таковым или подобным образом: “Сия есть, — рече, — моя печаль, что мене в тяжелую и жесътокую страну посылают, здравию моему несносную и вредителную, а мнѣ послушание есть оканчивать жития святых в ползу церк-ве общую”. И, таковый благословный резон услышав от него, богомудрый и благочестивый монарх велѣл его перевести в Ростов митрополитом на мѣсто преставлшагося тогда преосвя-щеннаго Иоасафа, митрополита Ростовскаго»11.
Такие предания с претензией на документальность ( «^скол-ко мог об нем достовѣрно слышать…» — пишет Арсений (Ма-цеевич)) — отличительная черта Жития Димитрия Ростовского. Приведем пример еще одного биографического предания в составе его Жития:
«Пред кончиною святаго Димитрия благоволение было государыни царицы Праскевы Феодоровны приехать в Ростов ради поклонения иконѣ Пресвятыя Богородицы Толской, ибо за распутием осенним до Ярославля ѣхать было трудно. И для того повелено было оную чудотворную икону из обители принести в Ростов. Тогда святый Димитрий, бывый уже в послѣдних днях, имянно же за одни токмо сутки до кончины своея жизни, когда донесено его преосвященству о пришествии государыни царицы Праскеви Феодоровны с царевнами и о принесении образа Пресвятыя Богородицы Толския, изволил в разговорах приказывать казначею, бывшему тогда иеромонаху Филарету, то, что “се грядут в Ростов двѣ гостьи — Царица Небесная и царица земная, токмо я уже видѣть здесь не сподоблюся, и подлежит-де к принятию оных гостей готову быть тебѣ, казначею”»12.
Приезд царицы Прасковьи Федоровны, которая не успела застать Димитрия Ростовского в живых, очевиден, это реальный факт; высказывание святителя Димитрия претендует на достоверность, и в данном историческом контексте заставляет читателя поверить в него. С другой стороны, текст предания, введенный в состав Жития, может рассматриваться как чудо — предчувствие, предсказание смерти, и в этом жанровое своеобразие включенных в Житие биографических преданий. При этом предание помещено не в конце Жития, как следовало бы ожидать («Тогда святый Димитрий, бывый уже в послѣдних днях, имянно же за одни токмо сутки до кончины своея жизни…»), а сразу после описания единственного прижизненного Чуда святителя Димитрия об исцелении бесноватой попадьи Татьяны Романовой [Федотова, 2022: 135–138] — тем самым за счет биографического предания расширяется область «чудесного» в Житии. Такая амбивалентность характерна для всех житий, написанных Димитрию Ростовскому, как памятников литературы второй половины XVIII в. — в том числе и для Жития, составленного Арсением (Мацеевичем). С другой стороны, созданные по законам средневековой литературы, эти сочинения имеют черты литературы Нового времени. Авторы Жития святителю еще следуют агиографическому канону, пишут по законам традиционного жанра, но их сочинения уже наполнены биографическими сведениями, и тем самым они отличаются от древнерусских житий: это не только описание добродетельной жизни святого, но и жизнеописание известного писателя, в котором биографическое предание играло немало важную роль.
Согласно завещанию, святитель Димитрий был похоронен в Яковлевском монастыре в Троицком храме, построенном в 1686 г. на месте храма конце XIV в. в честь Зачатия праведной Анною Пресвятой Богородицы [Виденеева, 1991]. Это завещание имеется в другом, Синодальном житии Димитрия Ростовского:
«Вступая же во град Ростов, егда первѣе прииде в монастырь святаго Иакова, епископа Ростовскаго, и вшед в соборную Зачатия Пресвятыя Богородицы церковь, обычное моление сотвори. В тое самое время по нѣкоему свыше ему бывшему откровению предузнав, яко в Ростовѣ имѣет скончатися, назна-менова во углѣ тоя цѣркви на правой странѣ к погребению себѣ мѣсто. И глагола к бывшим тогда с ним: “Се покой мой, здѣ вселюся во вѣк вѣка”, — еже напослѣдок точно и сбысться по проречению его: в Ростовѣ бо преставися, и идѣже назнаменова мѣсто, тамо и положен»13.
Данный текст, вероятно, бытовал в устной традиции и основывался на письменной «Духовной» митрополита, в которой сказано: «Аще же владычествующих изволение повелит мя, умерша, погребсти по обычаю, да погребут мя в монастырѣ Святаго Иакова епископа Ростовскаго, во углѣ церковном, идѣже мѣсто ми назнаменовах, о сем челом бью»14. И даже Стефан Яворский, приехавший на погребение Димитрия Ростовского, не стал нарушать завет Димитрия, несмотря на все уговоры жителей Ростова похоронить митрополита в Успенском соборе Ростовского Кремля как основном месте погребения ростовских князей и митрополитов. Это завещание, как и предание, отразилось в другой легенде. Граф Н. П. Шереметев, финансировавший строительство Дмитриевского храма Спасо-Яковлевского монастыря (1794–1801 гг.), видимо, возводил собор с надеждой на перенесение в него мощей святителя Димитрия. Однако, узнав к концу строительства, что мощи, согласно пророческим словам святителя, не могут быть перенесены, перестал интересоваться строи тельством, а потому реализованный проект, по мнению
Б. Эдинга [Эдинг: 135–136], далек от проектной документации, хотя Дмитриевский храм признается лучшим образцом русского провинциального классицизма.
Исторический контекст прослеживается и в других преданиях рукописи РМЗ № 828:
«В 1767 году мѣсяца генваря во время настоятельства архимандрита Павла в одну ночь, в самое полунощное время, пришел некто в келью к спящему архимандриту и, вдруг з него здернув одеяло, сказав: “Что ты спишь? Воры здесь”. Тогда архимандрит, въстав и весма испугавшись, приказал тотъчас к заутрени благовестить и сам пошел в церкву. И послѣ заутрени объявил ето видение всей братии, и с того времени приказал в великой осторожности быть, и при выходѣ из церкви послѣ каждаго пения, особенно в вечеру, дѣлать в церкве осмотр. Послѣ этого, недѣли з две спустя по окончании всенощнаго наряднаго в вечеру пения, обыкновенной при выходѣ здѣлавши по церквѣ осмотр, стали запирать, в то самое время архимандрит ис кѣльи нарочно прислал с приказанием, чтоб еще осмотреть в церквѣ. И как стали по ево приказанию вторично осмотр дѣлать, нашли за иконостасом человека, котораго, взявши и приведши в келью, допрашивал сам архимандрит. И в допросѣ оной человек объявил, что он по согласию многих в том расколников с намерением таким закрался, чтоб святые мощи святителя Димитрия взять и все пограбить. А как оное одному здѣлать невозможно, то зговорились, чтоб приехать в настоящую ночь разбойнически многочисленной толпой и, възяв, увести в некоторой лес и святые мощи сожечь. И в том допросѣ в Ростовскую воеводскую канцелярию отдан, гдѣ по оговору многие другие възяты к последствию дѣла сего столь важнаго, для рѣшения отосланы в Московскую губернию, гдѣ по решению дѣла сосланы на каторгу» (л. 219, № 1).
Предание начинается как чудо — предупреждение об опасности (пожаре, краже, нападении врагов), такие чудеса читаются чуть ли не в каждом житии любого другого святого: «…в одну ночь, в самое полунощное время, пришел некто в келью к спящему архимандриту и, вдруг з него здернув одеяло, сказав: “Что ты спишь? Воры здесь”». Далее представлена только общая картина происшествия, не названы имена виновников, неправильно указана дата. Однако предание имело под собой реальную основу, что отмечено на поле перед текстом «от слѣдствия дѣл». О нем рассказано в Указе по следственному делу (текст самого дела не сохранился): происшествие датируется 15 февраля 1766 г., а спрятавшийся за иконостасом человек — Григорий Ксенофонтов, дворовый человек помещика Андрея Корсакова сельца Никольского Кадуевского уезда, который при допросе назвал и своих сообщников, и своих заказчиков — ростовских записных староверов15. Событие было столь значимым, что даже отразилось в иконографии святого Димитрия Ростовского [Виденеева, 2008: 319].
Еще более сложно провести грань между преданием и чудом в двух других текстах, которые читаются также в рукописи РМЗ № 828. Мы не знаем, бытовали ли данные предания-чудеса о Димитрии Ростовском в устной традиции, нам они известны только по этой рукописи:
«Святый Димитрий во время пребывания своего в Ростовѣ выѣзжал в летнее время в село Дѣмьяны близ города Ростова, гдѣ для спокойнешаго пребывания имѣлся дом, при котором и церковь, гдѣ во уединении и безволвии пребывая в молитвах и богомыслии, упражняяся и в сочинении книг Святаго Писания, едино от достовѣрных повествуется сие. Изшедши святый ис кельи един в лес, в котором и кельи его бяху, и при блатѣ извлечеся своих одежд, стояше наг. На него же нападоша кома-рови, и мшиц, и оводов толикое множество, яко всему тѣлу его невидѣну быти, и стояше на мног час. Сие един внезапу увидѣв из ставлѣников егожѣ. Святый Димитрий клятвами закля не поведати сего никому. Еще и сие поведаемо от достовѣрно видѣвших, яко святый падши на землю крестообразно по три часа, не возтая, молитву к Богу творя» (л. 219 об., № 2).
«Единою вшедши един из причетников в келлию к святому Димитрию, увидѣв его сидяща и пишуща, а святаго ангела Божия стояща при нем, коего увидѣвши, вшедши человек страхом великим быв обят» (л. 220 об., № 6).
Эти предания не вошли в Житие Димитрия и маркированы как записанные со слов свидетелей: «от достовѣрных сказателей» — так читаем перед текстом второго предания; «…един из причетников…» — говорится в шестом предании; но они ничем не отличаются от прижизненных чудес митрополита, полностью вписываются в агиографический канон и соотносятся с чудесами других святых подвижников, ориентированы, подобны этим чудесам.
С первым текстом можно сопоставить, например, подвиг Феодосия Печерского, который «другоици же, оваду сущу многу и комаромъ, въ нощи излѣзъ надъ пещеру и, обнаживъ тѣло свое до пояса, сядяше, прядый вълну на съплетение ко-пытьцемъ и псалтырь же Давидову поя. Отъ множьства же овада и комара все тѣло его покръвено будяше, и ядяху плъть его о нем, пиюще кръвь его. Отъцъ же нашь пребываше не-подижимъ, ни въстая от мѣста того, дондеже годъ будяше утрьний, и тако преже всѣхъ обрѣташеся въ цьркви»16. Или подвиги преподобных Никиты Переславского и Саввы Ви-шерского (оба святых известны своим подвигом столпничества). Так, Никита Переславский:
«…совлек с себе мирьская одѣяния, и створив понагу, и шед в тростие, сѣде, ни с единѣм же уд своих обладая, токмо усты молитву творяще: “Боже, оцѣсти мя, много съгрѣшившаго” <…> И шед брат, не обрѣте его пред враты. Поискав мало, обрѣт его в тростьи лежаща, а пауком и мшицам на нем множеству пребывающим, овѣм отлѣтающим, овѣм по земли ползающим, и от излишения крови на землю каплющи»17.
Или:
«…преподобный Сава <…> вселися безмолвия ради на мѣсте пусте при рецѣ Вишерѣ, идеже виден бѣ мимоходящими, стоя на молитвѣ пред образом Пречистыя Богородицы во дни поста святых апостол Петра и Павла. Лице его покровено бѣ множи-цею комаров и мшиц до толика, яко ни тѣлесному зраку его во множествѣ их видетися»18.
Что касается второго текста, то можно привести огромное количество библейских примеров явления ангелов как из Нового, так и из Ветхого Завета, величайший из которых — явление архангела Гавриила Деве Марии. Ангелы являлись святым, поддерживали, спасали, исцеляли и помогали им. Наиболее близкий текст читается в Житии Паисия Великого:
«Посем ин нѣкий брат прииде к преподобному Паисию, видѣти его хотя, и обрѣте того спяща. Узрѣ же святаго аггела хранителя видѣнием прекрасна, при главѣ стояща. И удивився, рече “Поистиннѣ хранит Бог любящыя его”. И не дерзнув к спящему отцу аггелскаго ради присутствия приступити, отиде, благодаря Бога, доволно пользовався от сего, яко сподобися аггела Божия при преподобном видѣти»19.
Если в рассказе о Димитрии Ростовском ангел присутствует, когда святитель «сидяща и пишуща», то, например, в Житии Сергия Радонежского ангел служит вместе с ним божественную литургию, и «не токмо нынѣ днесь, но и всегда посѣще-нием Божиимъ служащу ми недостойному с ним»20.
Последнее предание в сборнике РМЗ № 828 относится к периоду обретения и освидетельствования мощей Димитрия Ростовского и также имеет под собой исторический контекст.
Известие об обретении мощей святителя Димитрия в 1752 г. за короткое время распространилось по епархии, при гробе митрополита стали совершаться чудеса. Ростовский митрополит Арсений (Мацеевич) уведомил об этом Святейший синод, но не предоставил ему письменных свидетельств чудесных исцелений. Синод в свою очередь не спешил признавать нетленность мощей Димитрия и факты исцеления больных и немощных. В июне 1753 г. Синод неофициально отправил московского архиепископа Платона (Малиновского) для выяснения вопроса, имеются ли при гробе святителя Димитрия чудесные исцеления и ведется ли их запись. Арсений во время визита архиепископа Платона признался, что никто не расспрашивал приходящих богомольцев и не производил записи чудес. Осознав свое упущение, Арсений по совету Платона (Малиновского) приказал с этого момента вести в особой тетради записи исцелений и чудесных знамений, происходящих при гробе Димитрия. Но вера в святителя росла, исцеления по молитве ему происходили не только в Ростове, но и в окрестных селах и дальних городах, и народ не простил нерешительности и нетвердой веры в святителя Димитрия архиепископу Платону (на самом деле человеку отважному, образованному, внимательному и гуманному), а также той миссии, с которой он приехал в Ростов:
«Платон Малиновский, архиепископ Московский, быв в Ростовѣ для освидѣтелствования мощей святителя Димитрия и неверием одержим, сказал, что и я, де, буду таковым же. Потом в скором времѣни умер, и так с того часу от тѣла его был такой нестерпимый смрад, что во всѣм городѣ Крѣмлѣ весма чувствителен был» (лл. 220 об.–221, № 7).
Платон (Малиновский) действительно вскоре скончался (15 июня 1754 г., не дожив до официальной канонизации Димитрия Ростовского), после его смерти осталось 20 рублей, которые по завещанию Платона были розданы нищим [Кочетов: 657].
Таким образом, биографические предания, исторические анекдоты о Димитрии Ростовском разнообразны по объему, содержанию, функциональному назначению, историческому контексту. Их «устойчивым критерием стало прямое значение слова — “неизданное”, “неизвестное”» [Дробова: 275]: они дополняли биографию святителя Димитрия, впервые изложенную в житиях, составленных ему. Эти тексты немногочисленны, как немногочисленны предания о других писателях Петровского времени — Стефане Яворском и Феофане (Прокоповиче), но главным героем исторических преданий эпохи оставался Петр Великий. Образ острослова или вольнодумца в исторических анекдотах о Стефане Яворском и Феофане (Прокоповиче), в которых занимательность доминировала над историзмом, был обусловлен их писательской ролью или положением государева сподвижника [Морозова: 163], [Свердлов: 241], [Бухаркин: 163–164]. Исторические предания о Димитрии Ростовском совершенно иные: писательское амплуа и даже церковное положение уходят на второй план, «он в первую очередь и по преимуществу христианин, и писать для него означает прежде всего восхвалять Бога» [Бухар-кин: 133]. Главным оказывается религиозное служение Димитрия Ростовского, свидетельство его святости, а потому биографическое предание входило в житийный текст или трансформировалось в другой тип нарратива, другой жанр, относящийся к агиографической прозе, а именно — в рассказ о чудесном, повествование о чуде.
Список литературы Исторические анекдоты о Димитрии Ростовском (биографические предания и агиография)
- Абильдинова Ж. Б. Жанровая специфика анекдота // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. 2010. Вып. 45. № 2 (202). С. 5–9.
- Бронштэн В. А. Новый взгляд на историю гороскопа Петра Великого // Герменевтика древнерусской литературы. М.: Тип. «Нефтяник», 1994. Сб. 7. Ч. 2. С. 441–459.
- Бухаркин П. Е. История русской литературы XVIII века. Петровская эпоха. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2018. 512 с.
- Виденеева А. Е. К истории посвящения храмов Ростовского Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря // Сообщения Ростовского музея. Ростов: [б. и.], 1991. Вып. 1. С. 74–119.
- Виденеева А. Е. Святитель Димитрий Ростовский и Спасо-Яковлевский монастырь // Святитель Димитрий, митрополит Ростовский: исслед. и мат-лы. Ростов: Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь, 2008. С. 311–338.
- Дробова Н. П. Биографические предания о русских писателях XVIII века как историко-литературное явление // XVIII век. Л.: Наука, 1981. Сб. 13. С. 275–283.
- [Кочетов Д. Б.]. Платон (Малиновский) // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2019. Т. 56. С. 655–658.
- Круминг А. А. Сборник произведений святого Димитрия Ростовского (рукопись Ростовского музея № 828) // История и культура Ростовской земли. 1992. Ростов: [б. и.], 1993. С. 69–91.
- Курганов Е. Анекдот как жанр русской словесности. М.: ArsisBooks, 2014. 264 с.
- Мезин С. А. Анекдоты о Петре Великом как явление русской историографии XVIII в. // Историографический сборник: межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2002. Вып. 20. С. 18–54.
- Морозова Н. П. Русский писатель XVIII века в биографических преданиях // XVIII век. СПб.: Наука, 1991. Сб. 17. С. 162–168.
- Петруня О. Э, Турилов А. А. Амфилохий // Православная энциклопедия. М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. С. 199–200.
- Плужников В. И., Симонов Р. А. Гороскоп Петра I // Труды Отдела древнерусской литературы. Л.: Наука, 1990. Т. 43. С. 82–100.
- Свердлов М. Б. Академический анекдот как особый вид исторической памяти // Петербургский исторический журнал. СПб.: Нестор-История, 2016. № 1 (9). С. 237–246.
- Сукина Л. Б. «Эпитафия Димитрию Ростовскому» Стефана Яворского в контексте религиозной культуры переходного времени // История и культура Ростовской земли. 2004. Ростов: [б. и.], 2005. С. 125–133.
- Федотова М. А. Эпистолярное наследие Димитрия Ростовского: исследование и тексты. М.: Индрик, 2005. 384 c.
- Федотова М. А. О конклюзии святому Димитрию Ростовскому (и еще раз о дате крещения святого) // Труды Отдела древнерусской литературы. СПб.: Наука, 2010. Т. 61. С. 311–328.
- Федотова М. А. Об одной эпитафии Димитрию Ростовскому (К истории жанра эпитафии в XVIII в.) // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 4. С. 190–214 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1638559138.pdf (13.01.2022). DOI: 10.15393/j9.art.2021.9743
- Федотова М. А. Святитель Димитрий Ростовский: Житие, Служба, чудеса: исследование и тексты. СПб.: Пушкинский Дом, 2022. 560 с.
- Чистякова И. В. Анекдот как литературный жанр // Вестник Вятского государственного университета. 2012. № 4 (2). С. 81–85.
- Шляпкин И. А. Св. Димитрий Ростовский и его время (1651–1709). СПб.: Тип. и Хромолит. А. Траншель, 1891. X, 460, 101 с.
- Эдинг Б. Ростов Великий. Углич. Памятники художественной старины. СПб.: И. Кнебель, [1914]. 200 с.