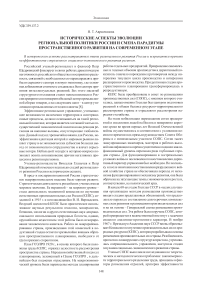Исторические аспекты эволюции региональной политики России и смена парадигмы пространственного развития на современном этапе
Автор: Аврамчикова Надежда Тимофеевна
Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 6 (13), 2006 года.
Бесплатный доступ
В историческом аспекте рассматриваются этапы регионального развития России и вскрываются причины неэффективности современного социально-экономического развития регионов.
Короткий адрес: https://sciup.org/148175367
IDR: 148175367 | УДК: 339.137.2
Текст научной статьи Исторические аспекты эволюции региональной политики России и смена парадигмы пространственного развития на современном этапе
Российский ученый-регионалист и философ Петр Щедровицкий фиксирует в своих работах драматическую неготовность российского общества к восприятию реальности, связанной с необходимостью перенаправлять прибыли сырьевого сектора в новую экономику, где основная добавленная стоимость создавалась бы в секторе принятия интеллектуальных решений. Без этого масштаб структурного отставания станет невосполнимым и Россия превратится в низкорентабельный центр промышленной сборки товаров, а на следующем шаге - в центр утилизации промышленных отходов планеты [8].
Эффективное региональное управление, учитывающее возможности включения территории в интеграционные процессы, должно основываться на такой региональной политике, которая является составной частью государственной экономической политики как реакция регионов на внешние вызовы, сопутствующие глобализации. Цанный подход чрезвычайно важен для России, неэффективная адаптация которой к мировым рынкам лишает страну и ее экономических субъектов больших выгод от экономического сотрудничества и влечет серьезные потери. Небольшой экскурс в историю вопроса позволяет понять возникновение причин негативных процессов в развитии регионов.
Ученые-регионалисты Вячеслав Глазычев и Петр Щедровицкий отмечают несколько стадий регионального развития России в историческом аспекте.
В пред- и послереволюционной России стратегическое макрорегиональное видение было хорошо развито. Стратегическая деятельность российских ученых имела мировое значение. Ее вершиной - на мировом уровне -стала деятельность знаменитой комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС), созданной в 1915 г. и возглавлявшейся В. И. Вернадским. Ведущей идеологией КЕПС было практическое использование научных результатов геологии, минералогии, ботаники, зоологии и других естественных наук для рационального использования природных богатств, однако, крупнейшим недостатком этой работы было игнорирование человеческого капитала. Работа по макрорайонированию страны, произведенная этой комиссией в по-дуктивной стадии остается чрезвычайно важным образцом пространственного планирования, свободного от груза прежних стереотипов.
План ГОЭЛРО 1920 г., в основу которого были положены труды КЕПС, отражал целостность рассмотрения пространства страны. Народнохозяйственный подход к планированию, заложенный в Плане ГОЭЛРО , в дальнейшем был подменен отраслевым. На макроэкономический уровень были перенесены методы планирования работы отдельных предприятий. Превращение ежемесячных и годовых объемов производства в директивный показатель означало порождение противоречия между интересами текущего цикла производства и интересами расширенного производства. Продуктивная стадия пространственного планирования трансформировалась в репродуктивную.
КЕПС была преобразована в совет по размещению производственных сил (СОПС), с мнением которого считались, однако именно Госплан был центром подготовки решений в общем балансе ресурсно-территориального рассмотрения страны и отраслевого рассмотрения народного хозяйства.
На этапе мобилизации перемещение сотен предприятий и миллионов людей на Восток в невероятно короткие сроки во время первых лет Великой Отечественной войны осуществлялось в соответствии с условиями военного времени под прямым руководством Совета Обороны и с минимальным участием СОПС. Сотни тысяч эвакуированных инженеров, мастеров и рабочих высокой квалификации на время существенно подняли квалификационный уровень персонала ряда глубинных городов страны. Цля функционирования в экстремальных условиях войны и послевоенного восстановления директивный характер управления был необходим. Но поскольку и после окончания восстановления разрушенного войной хозяйства страна не обеспечивала переход от механизма функционирования к механизму развития, она была обречена на затухающие темпы экономического роста и, соответственно, на политический крах.
В начале 60-ых годов Госплан СССР в «целях улучшения организации методов размещения производства» вводит стадию предплановых обоснований, что предполагало переход к составлению долгосрочных комплексных схем развития и размещения производительных сил и на их основе - Генеральной схемы размещения производительных сил. Эта работа была поручена СОПС, который превращается в ведомственный институт с задачами сводного аналитико-прогнозного характера. В ноябре 1967 г Президиум Академии наук СССР вновь образовывает Комиссию по изучению производительных сил и природных ресурсов (КЕПС), которая разрабатывала основы размещения производительных сил страны. Разобщенность прогнозно-планирующих структур возрастала, утрачивалась операциональность управления, наступила стадия затухания социально-экономического развития страны.
Ученые СОПС выполняли исследования по теоретическим и методологическим проблемам: закономерности территориального разделения труда, принципы и факторы размещения отраслей, критерии эффективности размещения производства, методы экономического районирования и административно-территориального устройства. Эти работы носили сугубо «внутренний» характер, практического применения не имели и даже его не предполагали. При этом параллельно при АН СССР КЕПС разрабатывала региональные разделы Комплексной программы научно-технического прогресса и его социальных последствий на основе идеологических догм. Многолетняя деятельность ученых-регионалистов как в КЕПС, так и в СОПС свелась к изготовлению серии демонстрационных планшетов, социально-экономические расчеты носили декларативный характер, включая поступательный рост населения страны вопреки уже имевшимся негативным демографическим тенденциям.
Стадия свертывания крупномасштабных работ в проблематике пространственного развития наступила в начале реальной перестройки в конце века. Исчез Госплан, а СОПС, как и РАН, потерял свое влияние. Эти процессы проходили в то самое время, когда цивилизованный мир превратил пространственное планирование из краткого свода отдельных региональных проектов в норму В России масштабные работы по пространственному планированию были заблокированы, а отдельные региональные проекты не могли привести к значимым результатам. Формирование министерства регионального развития в 2004 г дает новый шанс возрождению стратегиро-вания в его пространственном выражении [1].
Под пространственным развитием понимается наиболее общий подход к государственным задачам управления, опирающийся на системно-структурные представления о целостности страны. При всем значении международного опыта разработки и практического применения идеологии пространственного развития необходимо отдавать себе отчет в том, что использование этого опыта возможно избирательным и частичным образом. Ситуация России трижды исключительна, что не позволяет использовать готовые технологии, за исключением некоторого числа инструментов анализа и проектирования.
Неэффективное размещение населения, недостаток ресурсов в точках реального роста, неэффективный рисунок транспортных коммуникаций, унаследованный от предыдущих эпох - все это мощно тормозит развитие страны.
Неэффективная пространственная организация деятельности на территории России обходится ей потерей, как минимум 2-3 % ВВП ежегодно.
На сегодняшний день в России имеет место низкая эффективность использования финансовых средств, которые в последние годы концентрируются в руках федерального центра и перераспределяются по территории страны. Средства, изымаемые через налоговую систему у регионов-доноров, перекачиваются регионам-получателям под лозунгом «сокращения различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации». На практике это, замедляя развитие первых, приводит к стагнации или чрезвычайно медленному росту вторых, без какой-либо реакции со стороны управленческих систем. Правительством предпринимаются попытки изменения ситуации за счет снижения издержек, связанных с неэффективным региональным управлением, что, возможно, приведет к ограниченному успеху, однако в принципе не может переломить ситуацию. Радикальное изменение ситуации, включая необходимое умножение валового внутреннего продукта (ВВП), возможно только при изменении самой парадигмы пространственного развития.
Концептуально такое изменение означает: выявление реального пространственного каркаса развития страны, включая узлы опережающего роста и связи между ними, прочитываемые в глобальном экономическом контексте; планирование направлений опережающего развития этих узлов и связей; разработку и осуществление проектов такого опережающего развития, способных вовлечь в свою орбиту и депрессивные территории. В общем виде это может быть описано как разработка единой схемы пространственного развития страны в сочетании с инструментами бизнес-активности, умножения социального капитала и централизованного государственного вмешательства в стихийный процесс реструктурирования пространства.
Смена парадигмы пространственного развития предусматривает, прежде всего, корректировку понятийного аппарата: «пространственное развитие» вместо «территориального планирования», «единая схема пространственного развития» вместо «единая схема территориального планирования РФ». Старые клише тянут за собой старые механизмы централизованного бюрократического управления. Территориальное планирование является уже только инструментальной формой реализации стратегии пространственного развития на точно очерченных территориях.
Задача состоит в том, чтобы преодолеть ограниченность накопленного опыта и выйти на сущностное рассмотрение проблем пространственного развития в масштабе всей страны - единственном масштабе, позволяющем раскрыть весь потенциал нового подхода к задачам управления развитием России на всех уровнях: от страны как целого до минимальной «молекулы» местного самоуправления, и от малого муниципалитета к федеральному округу и стране в целом, в ее континентальном и глобальном контекстах.
Старая парадигма территориального планирования предусматривала отдельные его положения как догмы: приближение производства к источникам сырья и опережающее обеспечение их электроэнергией, стягивание населения к новым производствам, что означало увеличение населения Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, стандартизация жизнеобеспечения безотносительно к природным и этнокультурным условиям вместе с лозунгом выравнивания уровня развития по регионам, формирование агрогородов с искусственным закрытием множества деревень, определенных как неперспективные.
С формированием федеральных округов территориальное планирование могло бы приобрести действительно новое качество пространственного развития. Однако территориальному планированию не нашлось места в своде функций федерального округа, тогда как традиционный лозунг выравнивания развития по регионам увеличивает обычный бюджетный торг между МЭРТ и администрациями субъектов федерации.
Ловушка регионального подхода заключается в том, что мышление региональных властей склоняется к вопросу как лучше всего определить оестествление границ региона, поскольку их поле ответственности очерчено этими границами. Мышление в границах и границами блокирует проектную деятельность на макрорегиональ-ном уровне, так как любая идея кооперации между регионами отторгается в силу «естественного» ухода от излишней сложности. Существующие межрегиональные ассоциации могли бы переломить ситуацию, но их деятельность в условиях старой парадигмы пространственного развития в большей степени носит декларативный характер. Вместо действительного социально-экономического и социально-культурного микрозонирования, региональные администрации предпочитают номинально признавать физико-географическое зонирование территории, не связанное со структурированием хозяйства. Мышление в границах региона не настроено на то, чтобы стимулировать сетевые и кооперационные связи между административными районами, поскольку привычная «пирамидальная» конструкция управления и статистического учета не приемлет такого рода конструкцию как норму.
На уровне федерального округа возможна существенная перестройка подхода пространственного развития, так как отсюда просматривается потенциал сетевых объединенных ресурсов, локализованных в разных регионах. В связи с этим стоит задача формирования институтов территориального планирования, как составной части вертикали исполнительной власти и схемы регионального управления.
Федеральная целевая программа «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (на 2002-2010гг. и до 2015 г.)» также работает в рамках старой парадигмы социально-экономического развития территорий. Речь идет о «сокращении различий» (даже не о сокращении разрывов в душевом потреблении), что противоречит целям стратегического развития, невозможного без усиления различий между лидерами и аутсайдерами, происходящего естественным, рыночным путем. Это не означает отказ от смягчения последствий через социальную политику, но предполагает четкое разведение схем функционирования и схем развития. Никакими усилиями воли невозможно уменьшить различия между затратами на душу как работающую, так и неработающую, в Магаданской области и в Краснодарском крае, между типами трудовой этики в Карачаево-Черкесии и в Псковской области и т. п. Невозможно проводить эффективную политику стратегического развития территорий, не вкладывая существенные добавочные средства в ядра инновационной экономики. Курс, взятый на выравнивание социально-экономического развития регионов рано или поздно приведет к тому, что сократится число регионов-доноров. Должна быть принята иная стратегия - ставка на базовые регионы роста, вокруг которых начинается опережающий экономический рост, и которые втянут в орбиту своего развития соседние территории. В известной мере речь идет о колонизации наиболее сильными регионами отставших территорий, которые стремятся, прежде всего, сохранить ресурсы у себя. Однако следует признать, что принцип колонизации всегда игравший существенную роль в эволюции России, не утратил своей целесообразности - вопрос лишь в модели колонизации.
Ситуация, при которой абсолютное большинство регионов являются дотационными, не может быть сочтена нормальной и нуждается в реконструкции. Представляется необходимым пересмотреть территориально-административное устройство России, применив технику взаимо-наложения нескольких схем районирования (схемы регулирования хозяйственных отношений, схемы реализации бюджетных обязательств государства в социальной сфере, схемы экологической безопасности, технологической эффективности и др.). При этом государственное планирование развития инфраструктуры экономики эффективно только в том случае, если его объектом являются надрегиональные (межрегиональные) территориальные системы и связи и которые могут получить статус федеральных.
Формирование федеральных округов позволяет очертить управленческую «рамку», так как каждый округ объединяет существенное число регионов, создав необходимые условия для практического стратегирования. При этом в субъектах федерации активную роль должны играть «вторые» города (Братск-Иркутск, Тольятти-Самара, Но-рильск-Красноярск и др.), которые сопоставимы по многим параметрам с первыми, т. е. с центрами регионов, но не несут бремени регионов, они менее регионизированы, чем центры. Поэтому их экономика эффективна, а сами вторые города обнаруживают все признаки экономического роста, основанного на производстве, тогда как наблюдаемый «бум» региональных столиц во многом основан на больших объемах перераспределения внутри региона ресурсов, «достающихся» его центру.
Отсутствие ярко выраженного «второго» города в некоторых субъектах федерации заставляет выделять «третьи» города. Вычленение классов «вторых» и «третьих» городов из совокупности районных центров позволяет качественным образом перереструктурировать пространство регионов, равно как и редких межрегиональных узлов урбанизации и роста экономики. При этом целесообразно произвести особое типологическое расчленение территории по признаку потенциальной эффективности федерального вмешательства на следующие кластеры:
-
- тип «узлы роста», которые в свою очередь расчленяются на подтипы;
-
- тип «вторые» города и зоны их влияния (их развитие осуществляется крупным бизнесом и, как правило, не нуждается в федеральном вмешательстве);
-
- тип «третьи» города и зоны их влияния (их развитие осуществляется, в основном, средним и малым бизнесом и нуждается в поддержке инфраструктуры);
-
- тип «точки роста» в административных районах (развитие осуществляется, как правило, средним и малым бизнесом и нуждается в поддержке преимущественно финансовой инфраструктуры);
-
- тип «зоны равновесия», в которых можно говорить об относительно устойчивом самоподдержании населения, при медленном росте потребления и производства. Характер этих зон целесообразно рассматривать как индивидуальные целостности;
-
- тип «депрессивные зоны» не имеют природных и финансовых ресурсов для саморазвития и нуждаются в поддержке федерального центра.
Внимание к «зонам равновесия» особенно существенно, поскольку обычно их смешивают с реально «депрессивными зонами» в некое неразличимое целое, что является грубой управленческой ошибкой. В абсолютном большинстве «зоны равновесия» способны удерживать баланс между образом жизни и уровнем жизни, что позволяет бесследно поглотить любой объем внешних средств и эти зоны нуждаются лишь в развитии обеспечивающих инфраструктур.
«Депрессивные зоны», в отличие от «зон равновесия», в целом характеризуются поступательным ухудшением состояния и, в силу множества причин, настолько прочно вошли в положение «черной дыры», что без поддержки извне оказываются на грани социальной катастрофы или уже за этой гранью. В практике российского законотворчества две последние зоны не различаются, тогда как максимум различий приходится на социальнопсихологические условия, в которых видит себя территориальное сообщество.
В развитых индустриальных странах схемы пространственного развития отработаны и заслуживают самого пристального внимания.
Опыт создания Аляскинского агентства развития и экспорта (ЭЙДА) чрезвычайно интересен, однако этот замечательный опыт имеет для нас сугубо академический интерес - среди российских регионов до настоящего времени нет такого, чтобы мог, как штат Аляска, самостоятельно построить и осуществить силами общественной корпорации программу экономического развития.
Комиссии по экономическому развитию европейских стран, прежде всего Франции и Великобритании, в начале 60-х гг. решали в некотором роде противоположную задачу: отталкиваясь от обширного опыта планирования, накопленного государственными и частными корпорациями, они должны были определить объекты и цели планирования одновременно в масштабе страны и континента. Однако надо учитывать, что начало этого качественно нового планирования в странах Европы совпало с периодом длительного доминирования социально-демократических правительств, в каждой из европейских стран государственное (региональное) планирование сосредотачивалось в основном на инфраструктурах.
Опираясь на давно действующие рыночные механизмы и принципиальный консенсус с крупным капиталом, правительства европейских стран имеют возможность почти полностью сосредоточить централизованное планирование на крупномасштабных инфраструктурных проектах. Такая концентрация внимания в российских условиях чрезвычайно затруднена.
Изменение парадигмы пространственного развития в России вызвано и объективными факторами. Плотность населения России составляет порядка 8,5 чел./кв. км, что является недопустимо малой величиной, за вычетом практически непригодных для жизни территорий мы имеем плотность порядка 20 чел./кв. км, что обеспечивает стране продовольственную безопасность, однако, как показывает анализ по развитым странам, этого недостаточно для интенсификации и модернизации производства. При всех достижениях современных технологий такая модернизация нуждается в плотности населе ния не менее 50 чел./кв. км. Достижение искомой плотности осуществимо на территории порядка 3 млн кв. км, сосредоточенной вокруг примерно 400 городов, против сегодняшних 1 080, причем достичь подобной плотности можно только одним способом - путем искусственного демографического сжатия, т. е. осознанно пойти на депопуляцию периферийных районов в большинстве отраслей.
Теоретически реконструкция системы расселения должна способствовать:
-
- свертыванию социального хосписа на обширных территориях, экономию значительных средств и сосредоточению их на плотных территориях для повышения качества социальных услуг;
-
- отказу от невозвратных затрат на остаточное сельскохозяйственное производство и сосредоточению усилий на развитие товарного сельского хозяйства;
-
- отказу от удержания в полумертвом состоянии системы ЖКХ в ряде малых городов и поселков и модернизации ее в жизнеспособных городах;
-
- обеспечению реального рывка интеллектуальной насыщенности всех форм производства и услуг;
-
- модернизации и достройке транспортных магистралей, включая трубопроводы.
Таким образом, необходимо отметить, что переходный период в политической и социально-экономической жизни России оказался опасно затянутым как в силу объективных обстоятельств, так и под давлением беспокойства федеральной власти по поводу риска утраты управляемости страны. Это обстоятельство препятствует воссозданию государственного планирования на новом рыночном уровне и с новыми функциями.
В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что эффективное стратегическое планирование регионального развития в России возможно только после реконструкции системы расселения (первичный фактор) и системы администрирования территорий и укрупнения субъектов федерации (вторичный фактор).
На сегодняшний день регионы выступают в первую очередь как канцелярии по дальнейшему распределению бюджетных средств, во вторую - как контролирующие органы по использованию этих средств, и только в третью очередь - как зоны развития. Если же часть хозяйственного комплекса, регулируемого частными корпорациями, корпоративными сетями и отдельными частными предприятиями будет возрастать по сравнению с централизованными системами, регулируемыми государством, то и доля государственного бюджета в ВВП будет неуклонно сокращаться, что приведет к сокращению роли региональных канцелярий по распределению бюджетных средств. По мере развития хозяйства при реконструкции системы расселения значение подоходного налога на заработки граждан, а вместе с этим и значение муниципальных бюджетов должно возрастать, сжимая зону ответственности регионов. Но при этом долгосрочные программы социально-экономического развития территорий должны содержать программы развития узлов системы расселения и связей между ними.