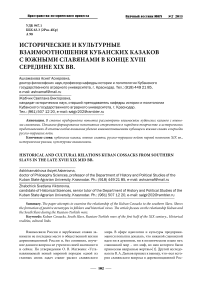Исторические и культурные взаимоотношения кубанских казаков с южными славянами в конце XVIII середине XIX вв
Автор: Ашхамахова Асиет Аскеровна, Жабчик Светлана Викторовна
Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim
Рубрика: Пространство исторического процесса
Статья в выпуске: 2 (2), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка рассмотреть взаимосвязи кубанских казаков с южными славянами. Показано формирование позитивных стереотипов в народном творчестве и исторических представлениях. В статье особое внимание уделено взаимоотношениям кубанцев и южных славян в периоды русско-турецких войн.
Кубанские казаки, южные славяне, русско-турецкие войны первой половины xix вв, исторические реалии, культурные взаимосвязи
Короткий адрес: https://sciup.org/14338633
IDR: 14338633 | УДК: 947.1
Текст научной статьи Исторические и культурные взаимоотношения кубанских казаков с южными славянами в конце XVIII середине XIX вв
Взаимосвязи России и зарубежных славян занимали не последнее место в общественной жизни дореволюционной России и, без сомнения, изучение данного вопроса не утратило своей значимости и сейчас. По утверждению О. В. Матвеева: «Устанавливаемый новый мировой порядок одной из главных своих задач ставит раскол славянского мира. В сфере идеологии и культуры предпринимаются попытки доказать, что никакой славянской идеи ни в духовном, ни в политическом плане нет; славянский мир – это миф, во имя которого были принесены напрасные жертвы»[1]. Другой исследователь В. А. Дьяков пришел к выводу, что «вся история славянского вопроса в дореволюционной Рос- сии категорически опровергает утверждение о том, будто славянская идея всегда и везде была составной частью «захватнической» политики России[2]. На раннем этапе своего развития идея славянского единства основывалась на этнонациональном признаке, и только позднее она стала использоваться в столкновениях между различными политическими группировками. Современные исследователи Е. К. Вяземская и С. И. Данченко отмечают, что «политика России, направленная на противоборство с Османской Империей и укреплении своих позиций на Балканах и в проливах, стремилась подчинить своим целям и задачам интересы народов и нарождавшихся государств в этом регионе»[3].
Официальные власти России всегда преследовали свои политические интересы, но российский народ, в основном, не преследовал этого, оказывая помощь славянам Балканского полуострова. Идея об освобождении славян и Царь-града от владычества турок была отражена в былинах, сказаниях еще в середине XV века. В «Повести о взятии Царь-града» «старой казак» Илья Муромец побеждает татар, которые захватили Царь-град. Идея об освобождении Царь-града «была близка казачеству, которое вело многолетнюю непрерывную войну с турками и другими народами магометанского Востока и осознавало себя в роли борца за истинную православную веру»[4]. «Историческая повесть о взятии Азова в 1637 г.», которая была создана в казачьей среде и «где сохранялись воспоминания об азовских подвигах, отмечает: «Помрем, братие, за святые божие церкви и за святую истинную нашу православную христианскую веру. Никим же ну-дими, никим же посылаеми, но сами восхотехом и по своей нашей воле за имя Христа истинного бога нашего и за обиду Российского государства единодушно помереть и крови свои пролияти»[5]. В исторических песнях кубанских казаков эта тема также затрагивалась не один раз: «Будем бить, пока изгоним / Всех с Европы басурман, / Христиан от них избавим, / Сами с богом по домам»[6]. Или : «Слышно бьют тревогу, / Становись в ряды, / По-моляся Богу, В поле выходи. / Тихо катит волны / Старый друг Дунай, / Ночью сумрак полный, / На все не зевай. / Наводи понтоны, / Турок спать не плох, / Двинемся колонной, / Пронесет нас Бог. / Мешкать нам не время, / Нужно воевать, / Басурманов племя / Во полон забирать»[7]. Другой текст повествует, что за веру, за Россию можно принять и смерть: «С Богом, братцы, не робея, / Смело в бой пойдем, друзья. / Смело, жизни не жалея, / На басурманина врага. / Там далеко за Балканом / Русский много раз шагал, / Покоряя вражьи силы, / Гордых турок побеждал. / Там идет путем прадедов / В битвах лавры добывать, / Смерть за веру, за Рос- сию / Можно с радостью принять»[8]. Или в другой песне повествуется о том, что «закубанский козак» навеки остался лежать в чужой земле: «Ох ты, конь, ты мой конь, / Где хозяин твой?» / – А хозяин мой / За Дунаем, за рекой. / А хозяин мой / За Дунаем, за рекой, / За Дунаем, за рекой / Оженился на дру-гой»[9]. В русской лирической солдатской песне также поется о гибели доброго молодца – молодого казака: «Ой, да за Дунаем, за / Дунаем случилась беда: / Там убили молодого казака, / Схоронили при такой долине…»[10].
Особенно проявлялся характер взаимоотношений кубанцев и южных славян в периоды русско-турецких войн.
Важным показателем взаимоотношений выступает массовое добровольческое движение в защиту единоверных славян. В период Первого сербского восстания 1804-1813 гг. добровольных пожертвований, массового движения в поддержку восстания со стороны кубанского казачества обнаружить не удалось. Что же касается России, то с самого начала восстания она «оказывала сербским повстанцам материальную помощь и дипломатическую поддержку. Но в условиях мира с Турцией и надвигавшейся войны с Францией российское правительство не могло оказывать военную помощь сербским повстанцам, тем более что с Портой его связывал договор об оборонительном союзе»[11].
С началом русско-турецкой войны 1806-1812 гг. царское правительство не предпринимало каких-либо решительных действий, которые могли бы способствовать развертыванию широкой вооруженной борьбы славянских народов против турецкого господства»[12]. Однако во время этой войны «начался новый этап в развитии общественных связей, определившийся тем, что в общение вступили не единицы, а массы: русские крестьяне, одетые в матросские и солдатские шинели, дворяне в роли офицеров, мастеровые, совместно занятые производством оружия, военноначальники российского и югославского происхождения»[13]. Вместе с тем Россия как единственная, сильная православная страна продолжала покровительствовать народам Балканского полуострова. От этой роли царское правительство «не могло отказаться по соображениям религиозно-идеологическим»[14]. Хотя в 1813 году турки вновь разгромили и опустошили Сербию, но они уже не смогли в полной мере восстановить свою власть в стране. Российское правительство разрешило переселяться в свои пределы «весной и летом 1814 года всем сербам, которые выразят такое желание»[15]. Однако планы Кара-георгия и «надежды на немедленную помощь российского правительства сербскому национальному движению не оправдались»[16]. По утверждению
Е. П. Кудрявцевой: «Планы российских правящих кругов не ставили во главу угла интересы освобождающихся народов. Они предусматривали, прежде всего, максимальные выгоды дворянско-помещичьей России. Однако обеспечение этих выгод в известной мере совпало с тем, чего добивались сербы, греки, черногорцы, болгары»[17].
Начавшаяся русско-турецкая война 1828-1829 гг. определила новый виток взаимоотношений. По мнению Н. Епанчина: «Цель войны вовсе не заключалась в освобождении всех христианских подданных султана и вовсе не в том, чтобы добиться распадения Оттоманской империи»[18]. Такого же мнения придерживается И. С. Достян: «В манифесте о войне ее причины обосновывались нарушением Портой условий русско-турецких договоров, ущербом, наносимым черноморской торговле России. В нем ни слова не говорилось о помощи грекам, о защите интересов христианских народов Турции и т.д.»[19]. Однако в нравственном отношении было очень важно придать войне религиозный характер, «ибо какие бы уверения не давало наше правительство иностранным державам, солдат наш шел в бой с турками в полной уверенности, что он должен их бить за то, что они «басурмане»[20]. В тоже время начало войны «не было встречено в России с заметным воодушевлением, а неудачи кампании 1828 г. тотчас вызвали самую неблагоприятную реакцию в различных общественных кругах»[21]. Примером народного воодушевления со стороны кубанского казачества могут послужить прошения, обнаруженные в архиве Краснодарского края. Так, Андрей Кучеров подал прошение от 1 августа 1828 года в котором повествовалось следующее, что «он обучался в певческом хоре, затем поступил в Ека-теринодарское уездное училище, после поступил в Харьковскую гимназию на войсковом содержании. Затем закончил Харьковский университет. Был определен на военную службу в 1826 году в конноартиллерийскую роту»[22]. Далее Андрей Кучеров излагал, что «находясь в военном звании, по воле войскового правительства, я определен Императорским Харьковским университетом учителем в Черноморскую гимназию… Но имея ревностное желание продолжить службу собственно и на поприще военном я осмеливаюсь нижайше просить, Ваше превосходительство, уволить меня от учительской должности, повелеть следовать в поход с полками, командированными… во 2-ю армию»[23]. Проситель с большим воодушевлением обращается к наказному атаману Черноморского войска Бескровному: «Ваше превосходительство! Прошу Вас нижайше явить начальническую Вашу милость и доставить случайно молодому офицеру служить на поле брани, который тщится на веки пытать в душе своей славу своего края и во всяком случае оправ- дывать оказанную милость великодушного своего начальника»[24]. Также обнаружено еще одно прошение на имя наказного атамана Черноморского войска Бескровного от урядника Ивана Кирпы 1-го: «Я находясь в Таманском земском сыскном начальстве в письменном отделе столоначальником вместе с родным братом своим, имея всю исправность к военной службе, желаю таковую продолжить в конных полках, назначенных в поход…, осмеливаюсь покорнейше просить Ваше превосходительство о назначении меня в состав сих полков»[25]. Были ли удовлетворены прошения этих казаков в архивных материалах, обнаружить не удалось, но, скорее всего, что да. В другом рапорте командующий Черноморским кордоном отставной подполковник Кондруцкий на имя наказного атамана указывал, что «сотник Онисим Майборода изъявил желание поступить в комплектуемые к походу во 2-ю армию полки. Принимая во внимание такое усердие к службе…, я с моей стороны дал мое согласие тем более, что офицер в полной мере соответствовать может цели назначения. 9 августа 1828 года»[26].
Русско-турецкая война 1828-1829 годов закончилась Адрианопольским мирным договором. История отмерила «40 лет для подготовки к новому всеобщему взрыву на Балканах, с 30-х по 70-е годы. Однако сама незавершенность решения национального вопроса и с точки зрения территориальной: основная масса населения продолжала жить в условиях прямого турецкого правления, и политической: созданные молдаванами, валахами и сербами государства не обладали полным суверенитетом, – служила залогом того, что новый подъем наступит, что он не за горами»[27].
После поражения России в Крымской войне царское правительство продолжало укреплять свое влияние на Балканах. В единстве православных народов, «находившихся под властью Порты, оно видело перспективу для их общей борьбы за освобождение от османского владычества, опору для упрочения своего влияния, залог успеха в противоборстве с влиянием западных держав»[28].
Официальные власти Российской империи, в основном преследовали одну цель –сохранение и увеличение влияния России на Балканах. При этом интересы российских правящих кругов и большинства южнославянских народов частично совпадали. Отношение же простых россиян, в том числе и казаков к балканским событиям варьировалось в самых широких пределах: от денежных и материальных пожертвований до добровольческого движения. В нравственном отношении русский народ, кубанское казачество всегда были на стороне южных славян, мотивируя это единой православной верой, что впрочем, всячески поддерживалось официальной идеологией.
Список литературы Исторические и культурные взаимоотношения кубанских казаков с южными славянами в конце XVIII середине XIX вв
- Матвеев, О. В. «На защиту своих однородцев..» Освободительное движение южных славян 1876 г. в общественных настроениях кубанцев/О. В. Матвеев//Итоги фольклорно -этнографических исследований этнических культур Кубани за 2003 год. Дикаревские чтения (10). -Краснодар, 2004. -С. 85.
- Дьяков, В. А. Славянский вопрос в общественной жизни дореволюционной России/В. А. М. Дьяков. -М., 1993. -С. 188.
- Вяземская, Е. К. Россия и Балканы. Конец XVIII -1918 г. Советская послевоенная историография: Обзор/Е. К. Вяземская, С. И. Данченко. -М., 1990. -С. 3.
- Матвеев, О. В. «Православные крестоносцы»: Балканское направление в пространстве казачьей картины мира и исторические реалии/О. В. Матвеев//Мир славян Северного Кавказа. -Краснодар, 2004. -Вып.1. -С. 208.
- Бигдай, А. Д. Песни кубанских казаков. В редакции В. Г. Захарченко. Т. II. Песни линейных казаков/А. Д. Бигдай. -Краснодар, 1995. -С. 46
- Шептунов, И. М. Отражение русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в фольклоре/И. М. Шептунов//Балканские исследования. Вып. 4. -М., 1978. -С. 248.
- Бажова, А. П. Россия и югославяне в конце XVIII -нач. XIX в./А. П. Бажова. -М., 1996. -С. 37.
- Достян, И. С. Россия и Балканский вопрос. (Из истории русско-балканских политических связей в первой трети XIX в.)/И. С. Достян. -М., 1972. -С. 61.
- Кудрявцева, Е. П. Россия и образование автономного Сербского государства (1812-1833 гг.)/Е. П. Кудрявцева. -М., 1992. -С.46
- Епанчин, Н. Очерк похода 1829г. в Европейской Турции. Ч. I/Н. Епанчин. -СПб., 1905. -С. 50
- Государственный Архив Краснодарского Края (ГАКК). Ф. 249. Оп. 1. Д. 978. Т. 1. Л.л. 45, 45-об
- Международные отношения на Балканах (18301856гг.). -М., 1990. -С. 346.
- Международные отношения на Балканах (18561878гг.). -М., 1986. -С. 141.