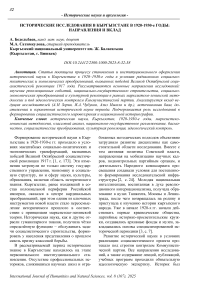Исторические исследования в Кыргызстане в 1920-1930-е годы: направления и вклад
Автор: Бедельбаев А., Сатимкулова М.А.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена процессу становления и институционального оформления исторической науки в Кыргызстане в 1920–1930-е годы в условиях радикальных социальнополитических и экономических преобразований, вызванных победой Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Рассматриваются основные направления исследований: изучение революционных событий, национально-государственного строительства, социальноэкономических преобразований и культурной революции в рамках марксистско-ленинской методологии и под идеологическим контролем Коммунистической партии. Анализируется вклад ведущих исследователей (А.Н. Зорин, Я.А. Чубуков, Азиз Ниалло и др.), источниковая база, достижения и ограничения исторической науки периода. Подчеркивается роль исследований в формировании социалистического мировоззрения и национальной историографии.
Историческая наука, Кыргызстан, 1920-1930-е годы, марксистсколенинская методология, классовый анализ, национально-государственное размежевание, басмачество, социалистические преобразования, культурная революция, идеологический контроль
Короткий адрес: https://sciup.org/170210851
IDR: 170210851 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-32-38
Текст научной статьи Исторические исследования в Кыргызстане в 1920-1930-е годы: направления и вклад
Формирование исторической науки в Кыргызстане в 1920-1930-е гг. проходило в условиях масштабных социально-политических и экономических трансформаций, вызванных победой Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. [1, с. 173]. Эти изменения затронули не только систему государственного управления, экономику и социальную структуру, но и сферу науки, культуры, образования, включая область исторического знания. Кыргызстан, ранее входивший в состав колониальной периферии Российской империи, оказался в центре кардинальных преобразований, при этом одним из ключевых инструментов новой власти стало переосмысление исторического прошлого в соответствии с принципами марксистско-ленинской теории. Историческая наука, как и другие отрасли гуманитарного знания, получила чётко определённую функцию – обслуживать задачи социалистического строительства, формировать у населения представления о прошлом сквозь призму классовой борьбы.
В рассматриваемый период историческое знание в Кыргызстане находилось на этапе первоначального институционального становления. Отсутствие профессиональных историков, сложившихся научных школ и отра- ботанных методических подходов объективно затрудняло развитие дисциплины как самостоятельной области исследования. Вместе с тем активная политика Советской власти, направленная на мобилизацию научных кадров, подконтрольных партийным органам, и деятельность Народного комиссариата просвещения создавали условия для постепенного формирования исследовательской инфраструктуры [2, с. 24]. Молодая национальная интеллигенция, воспитанная в духе революционного интернационализма, получала образование в вузах Ташкента, Москвы и Ленинграда, после чего возвращалась на родину и приступала к изучению истории кыргызского народа. Уже в начале 1920-х гг. начали действовать первые краеведческие общества, партийные историко-просветительские кружки, создавались архивные фонды и музеи, закладывались основы специализированной исторической периодики [3, с. 7].
Развитие исторической науки в условиях реализации социалистического проекта протекало под строгим контролем Коммунистической партии. Все направления исследований, а также содержание лекций, публикаций, учебных программ проходили обязательную идеологическую экспертизу. Историк был обязан не только фиксировать и анализировать события прошлого, но и интерпретировать их в категориях классового анализа, демонстрируя закономерность исторического процесса как борьбы угнетённых против эксплуататорских классов [3, с. 8]. Особое внимание уделялось разработке сюжетов, подтверждающих положения марксистско-ленинской теории общественного развития, включая переход от родоплеменных структур к феодализму, а затем к социалистическим формам хозяйствования. Таким образом, историческая наука выступала не только как инструмент познания прошлого, но и как средство формирования социалистического мировоззрения.
Одним из фундаментальных компонентов советской исторической парадигмы в 19201930-е гг. являлся ленинизм, выступавший в качестве методологической основы. Марксистско-ленинская концепция исторического развития, базирующаяся на теории общественно-экономических формаций, предопределяла схему трактовки исторических процессов: от первобытно-общинного строя – через рабовладельческий и феодальный – к капитализму и социализму. В применении к «отсталым народам Востока» В.И. Ленин сформулировал концепцию некапиталистического пути развития, согласно которой этносы, находившиеся на докапиталистических стадиях, могли миновать этап буржуазной революции и перейти непосредственно к социалистическим преобразованиям [4, с. 35]. Для Кыргызстана, где сохранялись архаичные формы хозяйства, родоплеменная организация и кочевой уклад, данная теоретическая установка приобрела определяющее значение. Перед исследователями ставилась задача убедительно показать, что киргизский народ благодаря руководящей роли Коммунистической партии сумел «перепрыгнуть» через капитализм и вступить на путь социалистического строительства.
Труды В.И. Ленина, в том числе более 300 его работ, посвящённых проблемам Востока и национального вопроса, стали не только методологическим, но и идеологическим фундаментом историко-просветительской деятельности в регионе. Они активно внедрялись в образовательный процесс, широко цитировались в научных публикациях, переводились на кыргызский язык. Особое значение придавалось таким работам, как «О кооперации», «Задачи союзов молодёжи», «О диктатуре пролетариата и власти Советов», которые служили одновременно теоретическими ориентирами и практическими руководствами к действию. С 1926 г. началась системная работа по переводу ленинских трудов на кыргызский язык, что имело двойной эффект: с одной стороны, обеспечивало широкое распространение идеологии социализма среди местного населения, а с другой – способствовало формированию научной и публицистической лексики на кыргызском языке, стимулировало развитие письменной культуры [5, с. 41].
В условиях жёсткой партийной вертикали научная деятельность организовывалась по принципу централизованного планирования. Под руководством Кыргызского обкома ВКП(б), уездных комитетов и агитационнопросветительных органов выстраивалась система научного и образовательного контроля. Исторические исследования становились неотъемлемой частью курса культурной революции и идеологической мобилизации. Партийные постановления определяли как общие цели, так и конкретные тематические приоритеты для историков. Так, резолюции ЦК РКП(б) 1920-1921 гг. предписывали уделять особое внимание анализу борьбы с басмачеством, укреплению органов Советской власти, освещению процессов национального размежевания – все эти направления становились основой исследовательской работы [6, с. 56]. Перед историками ставилась задача обосновать прогрессивную роль Советской власти, доказать необходимость национального самоопределения и социалистического переустройства народов Средней Азии. Важную роль в реализации этих задач играла Туркестанская комиссия ВЦИК, возглавляемая М.В. Фрунзе и В.В. Куйбышевым, которая координировала деятельность партийных и советских органов в регионе, направляла кадровые ресурсы, выпускала агитационнопросветительские материалы, включая работы историко-политического характера, и контролировала формирование официального нарратива о прошлом [7, с. 32].
Исследовательские усилия 1920-1930-х гг. были сосредоточены на изучении ключевых событий недавнего прошлого: Великой Ок- тябрьской социалистической революции, гражданской войны, становления органов Советской власти, национально-государственного размежевания, борьбы с басмачеством, а также процессов индустриализации и коллективизации. В этих работах акцентировался классовый подход, предусматривающий показ борьбы бедноты и батраков против баев и ма-напов, разоблачение «контрреволюционной сущности» басмачества, раскрытие прогрессивной роли Красной армии и местных большевистских организаций. Басмаческое движение трактовалось исключительно как реакция свергнутых феодальных и эксплуататорских классов, а его подавление – как закономерный результат победы пролетарского интернационализма. Уже к концу 1920-х гг. оформилась устойчивая идеологизированная схема интерпретации прошлого, закреплённая в исторической литературе того времени [3, с. 8].
Важное место в исследовательской повестке занимала тема национально-государственного строительства, которое в трудах историков рассматривалось как прямое следствие ленинской политики ликвидации национального угнетения и формирования союзных республик. Национально-территориальное размежевание Средней Азии 1924 г. и образование на его основе в 1926 г. Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики оценивалось как прогрессивный шаг, соответствующий чаяниям трудящихся. Подчеркивалось, что до революции кыргызский народ был разобщён, угнетён колониальной властью, не обладал собственной государственностью, а создание автономии стало актом исторической справедливости. Авторы ставили целью показать «возрождение» кыргызского народа в условиях социалистического строительства, переход от племенной раздробленности к национальному единству, формирование Советов как основы новой государственности [1, с. 174].
Этапы национального размежевания анализировались с привлечением постановлений ЦК РКП(б), решений Туркестанской комиссии ВЦИК, материалов съездов Советов, документов областных и уездных парторганизаций. При этом особое внимание уделялось обоснованию тезиса о том, что образование Киргизской АССР отражало волю трудящих- ся масс, а не являлось актом, навязанным сверху. В работах подчёркивалась добровольность, интернационализм, коллективный характер выработки границ и административного устройства. Размежевание интерпретировалось как практическая реализация принципа пролетарского интернационализма и национального самоопределения, сформулированного В.И. Лениным в его трудах о праве наций на самоопределение [8]. Параллельно анализировались процессы культурного и административного строительства: создание органов управления и судебной системы, развитие системы образования, появление печатных органов и научных обществ [3, с. 9].
Значительное внимание уделялось исследованию социально-экономических преобразований, проводившихся в республике в 19201930-е гг. Историки анализировали процессы индустриализации, коллективизации и аграрных реформ как ключевые этапы социалистического строительства. В их работах подчёркивалось, что до революции Кыргызстан находился на докапиталистической стадии развития, с преобладанием натурального хозяйства, родоплеменной организации и кочевого скотоводства, а Советская власть впервые открыла путь к модернизации, включив регион в общесоюзную хозяйственную систему [1, с. 175].
Отдельной темой исследований стала земельно-водная реформа 1921-1922 гг., рассматривавшаяся как средство разрушения феодальных отношений и перераспределения земли в пользу беднейших слоёв населения. Реформа характеризовалась как направленная против баев, манапов и крупных скотоводов, лишавшихся привилегий и собственности. Последующее землеустройство конца 1920х гг., охватившее Чуйскую долину, Талас и Сусамыр, рассматривалось как продолжение политики советской власти в аграрной сфере. Для анализа привлекались документы Сре-дазбюро ЦК РКП(б), отчёты земельных комитетов, материалы инспекций и статистические данные, позволяющие проследить процесс перехода от родовой к классовой структуре общества [9, с. 48].
Культурная революция также стала важным объектом исторического анализа. Особое внимание уделялось ликвидации неграмотности, организации советских школ, библиотек, клубов, театров. В исторических работах подчёркивалась роль передвижных школ в кочевых районах, ставших инструментом преодоления культурной отсталости. Открытие педагогических училищ в Пишпеке и Оше, подготовка учителей, издание газет и учебников на кыргызском языке рассматривались как показатели успешности социалистической культурной политики [10, с. 9].
В исследованиях социальной структуры кыргызского общества фиксировалась трансформация традиционного аила: выделялись бедняки, батраки, середняки, байство и ма-напство как эксплуататорские элементы. Авторы описывали классовую дифференциацию как движущую силу исторического процесса. На основе полевых исследований, статистических данных, налоговых и земельных списков восстанавливалась картина социальной стратификации накануне социалистических преобразований [1, с. 176].
Источниковая база исторических исследований, проводившихся в 1920-1930-е гг. в Кыргызстане, была относительно ограниченной, но включала несколько ключевых категорий документов. Наиболее широко использовались партийные материалы – постановления ЦК РКП(б) и ВКП(б), отчёты областных и уездных комитетов, протоколы съездов и конференций, резолюции Советов. Эти источники фиксировали политические решения, ход агитационных кампаний, оценку социального положения населения. Их широкое применение объяснялось не только доступностью, но и обязательностью учёта партийной линии при подготовке научных работ. Наряду с этим активно использовались статистические материалы: результаты переписей 1917 и 1920 гг., данные земельно-хозяйственных переписей, налоговая отчётность. Они позволяли исследовать структуру сельского хозяйства, демографию, имущественное расслоение, уровень грамотности и другие социально-экономические показатели [3, с. 10].
Значительную роль играли документальные сборники, подготовленные партийными органами. Так, сборник «ЦК ВКП(б) и Союзное правительство о Киргизии» (1937) под редакцией Г.Г. Куранова содержал постановления, резолюции, телеграммы, обращения, аналитические справки о социально-экономическом положении республики. Работа с по- добными источниками позволяла авторам формулировать выводы, соответствующие марксистско-ленинской методологии, и подчёркивать активную роль центральной власти в формировании новой государственной и социальной структуры. Вместе с тем исследования часто страдали методологическим схематизмом: события подгонялись под классовую схему «угнетатели – трудящиеся», сложные процессы упрощались [11, с. 159].
Одним из наиболее активных исследователей был А.Н. Зорин, чьи труды посвящены истории революции и национально-государственного строительства. Он вводил в научный оборот новые источники – отчёты Пи-шпекского и Алайского уездных комитетов, документы Туркестанской комиссии, материалы местных Советов. Особое внимание уделял деятельности первых большевистских организаций, таких как союз «Букара», рассматривая их как ядро пролетарского движения в регионе. Зорин также анализировал роль Туркестанской комиссии ВЦИК, возглавляемой М.В. Фрунзе и В.В. Куйбышевым, в укреплении Советской власти и проведении земельной реформы. По его данным, численность коммунистов в Кыргызстане выросла с 5 тыс. в 1919 г. до более чем 20 тыс. в 1921 г., что он считал показателем успехов партийной работы [1, с. 176].
Я.А. Чубуков сосредоточил внимание на событиях в северных районах Кыргызстана, в частности в Пишпекском уезде. Его труды отличались конкретикой: он подробно описывал Беловодский мятеж 1919 г., анализировал численный состав участников, использовал документы уездных комитетов. Чубуков стремился показать социальные и идеологические причины событий, отмечая, что кулачество и манапы использовали националистические лозунги для подрыва политики Советов [12, с. 21].
Важный вклад внёс Азиз Ниалло, исследовавший гражданскую войну и басмаческое движение. Он анализировал социальнополитическую природу басмачества, его классовую базу и идеологические установки. Ни-алло считал, что движение возникло из-за разрушения феодально-патриархального уклада и поддерживалось баями, манапами и кулачеством. При этом он отмечал, что успешная аграрная реформа и передача земли бед- ноте подорвали социальную базу басмачества, что способствовало его распаду к 19211922 гг. [13, с. 46].
Среди исследователей социально-экономической структуры кыргызского аула выделяются П. Погорельский и В. Батраков. Их экспедиции 1927 г. в Сусамырскую и Джумгаль-скую долины позволили зафиксировать имущественное расслоение: наличие богатых скотоводов, батраков, середняков. Введены в научный оборот понятия «пролетарии аула» и «капиталисты-скотоводы». Авторы доказывали, что уже в традиционном ауле существовали предпосылки для социалистических преобразований [14, с. 22].
П.И. Кушнер подходил к теме осторожнее: он утверждал, что манапство обладало признаками власти и имущественного превосходства, но не сформировалось в полноценный класс в европейском понимании. Эта позиция подверглась критике как «уклон в народничество». Однако Кушнер широко использовал полевые материалы, сочетая исторический, социологический и этнографический анализ [15, с. 30].
Экономическая история стала предметом исследований И.А. Фатьянова, который анализировал индустриализацию и аграрные преобразования, деятельность Госплана и местных органов планирования. Он предложил схему развития экономики Киргизской АССР по пятилеткам и рассматривал успехи угольной промышленности в Кызыл-Кие и Кара-Кече как доказательство эффективности социалистического планирования [16].
В.И. Буров-Петров изучал эволюцию ма-напства, предложив концепцию «реинтеграции родовой элиты в партийные структуры». М.Г. Сахаров исследовал оседание кочевых хозяйств, показывая, что колхозы стали «школой социалистического быта» для кочевников, но процесс сопровождался конфликтами, особенно в горных районах [17, с. 135].
М.С. Кивман анализировал земельно-пастбищную реформу 1921-1922 гг., показав, что перераспределение пастбищ и ликвидация частного владения стали катализатором социальной трансформации [18, с. 17].
Таким образом, историческая наука Кыргызстана 1920-1930-х гг. выполняла двойную функцию – научно-исследовательскую и идеолого-просветительскую. Несмотря на недостаток кадров и источников, а также жёсткую идеологическую цензуру, в эти годы были заложены основы национальной историографии, сформированы музеи, архивы, учебные заведения, подготовлены первые учебники и методические пособия.
Однако методологические ограничения, обусловленные доминированием марксистско-ленинской парадигмы, привели к схематизации интерпретаций, упрощённому делению общества на «угнетателей» и «трудящихся», нивелированию региональных особенностей. Тем не менее созданный в тот период корпус исторических трудов оказал долговременное влияние на формирование исторической памяти и представлений о прошлом Кыргызстана, закрепив официальную версию истории на десятилетия вперёд.