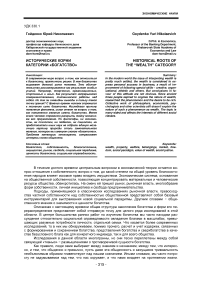Исторические корни категории «богатство»
Автор: Гойденко Юрий Николаевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
В современном мире вопрос о том, как относиться к богатству, практически решен. В нем богатство выражает деловой успех человека. Это обстоятельство рассматривается как результат особых усилий. Например, творческих, организационных, спортивных и иных. Как результат непрерывного совершенствования, титанической работы над собой. Но так ли очевидны выводы в пользу такой точки зрения? С древних времен человек стремился к познанию сути богатства. Исследовал причину появления феномена, искал ответ на вопрос о том, как появляется желание иметь богатство. Менее всего человек стремился раскрыть тайну механизма его преумножения. Ни философы, ни экономисты, ни психологи, ни педагоги, ни социологи, ни представители иных наук не собрали единую мозаичную картину природы столь замечательного явления, которое мы именуем словом «богатство». Проблема категории многогранна, затрагивает интересы всего общества.
Богатство, собственность, благосостояние, имущество, рынок, свобода, социальная парадигма, ценность богатства, социальная справедливость
Короткий адрес: https://sciup.org/14934605
IDR: 14934605 | УДК: 330.1
Текст научной статьи Исторические корни категории «богатство»
В течение долгого времени центральным вопросом в экономической теории остается вопрос отношения к собственности; вопрос о том, до какой степени на общий уровень благосостояния народов влияет искомое право владеть имуществом. Экономическая система, основанная на общественной собственности, позволяющая концентрировать материальные и человеческие ресурсы общества, обанкротилась. На смену ей пришел рынок, рыночная власть, многообразие форм собственности, личная инициатива и свобода предпринимательства.
Подходы, применявшиеся в классических исследованиях рыночной власти, превосходства частной собственности над собственностью общественной представляют собой базовый инструментарий для выстраивания новой социальной парадигмы. Другими словами - общественного мнения о значимости и ценности богатства.
Описанная к настоящему времени общая структура накопления богатства и форм его перераспределения представляет собой отправную точку для целого ряда исследований в этой области. В центре большинства ранних работ по изучению богатства мы часто находим рассуждения относительно социальной справедливости овладения благами в масштабах, превышающих разумные потребности личности, отдельной семьи. Что касается более современных исследований, то в них мы обнаруживаем, помимо прочего, расчет и учет издержек, связанных с формированием и сохранением богатства, представления богатства и сверхбогатства в качестве безусловного блага как для конкретного индивида, так и для всего общества.
Исследования в данной области многогранны, но они тесно переплетены между собой связующей «тканью» - размышлениями о противоречивой сущности богатства.
Как правило, люди сами выбирают между знанием и незнанием; между тем, что интересно, и тем, что обыденно и привычно, пусть даже эта обыденность и кажущаяся тривиальность необъяснимым образом главенствуют над нашим сознанием. Иными словами, мы часто попросту не задумываемся над тем, что нас окружает, и что нами владеет на протяжении жизни.
Концентрация же интереса на каком-либо предмете позволяет проникнуть в его содержание, изучить свойства и закономерности его «поведения». Знание об этом предмете дает нам определенную власть над окружающими: психологическую, нравственную, социальную, экономическую, техническую и т.п.
Так, формула К. Циолковского, когда она была опубликована в 1903 г. в работе «Исследование мировых пространств реактивными приборами» [1] и стала достоянием человечества, позволила рассчитать максимальную скорость, которую может получить одноступенчатая ракета вне пределов поля тяготения Земли. А это уже, не больше, не меньше, как начало космической эры.
Другой пример. При установлении цены на такую услугу, как интернет-банкинг, коммерческие банки вначале стимулировали интерес к самой технологии, инфраструктуре процесса. Пропагандировали преимущества продукта. И только потом, доказав, что мобильный банкинг и интернет-банкинг позволяют оплачивать различные товары и услуги дистанционно, не выходя из дома, сумели только на отечественном рынке «собрать» около 5 миллионов пользователей услуги [2, с. 48].
При этом потребители банковских услуг, которые особо ценят комфорт, оперативность и «современность» практики проведения операций, могут отличаться от потребителей, которым важна, в первую очередь, безопасность денежных переводов.
Таким образом, банки понимают, что эластичность спроса на «модные» услуги зависит не просто от новизны и особой формы удобства при осуществлении переводов средств, но и от эластичности иных впечатлений клиентов. Допустим, от понимания надежности операций, традиций, их доступности, прочих предпочтений. Эти сведения обогащают «копилку» знаний и опыта менеджеров кредитных организаций, позволяют выстраивать тактические и стратегические программы развития в правильном порядке.
Мир людей необъяснимым образом обладает рядом общих черт, которые всегда вызывали у человека, по меньшей мере, чувство изумления. К первой из них, по-видимому, относится необычайная сложность строения тела, то есть человеческая физиология. Вторая черта - мощнейшие адаптационные способности человеческого существа, ставшие основной причиной выживания искомой биологической единицы в самые неблагоприятные периоды для большинства из существ. Третья общая черта выражает бесконечное разнообразие форм жизни и психологического восприятия окружения. Как указывает В. Грант [3, c. 14], в современной фауне насчитывается примерно 4 000 видов млекопитающих и 9 040 видов птиц; описано около 19 000 видов рыб. А число всех известных ныне живущих видов позвоночных достигает 42 000.
Общие черты человека не исключают и различий. И дело не только в физиологических отличиях; они, конечно же, значительные, ярко выраженные. Важнее понять суть и причины этих различий (нравственных, психологических), содержание того, что составляет основу поступков и мыслей людей. Что развивает предпочтения, понимание ценности предметов и явлений. Что дает каждому из нас право на выработку оценок, например, в отношении столь яркого предмета, каким является богатство.
Прошло много времени с тех пор, как древний человек, думая о том, как добыть пищу, перебивался случайными продуктами охоты. Уходя в «мир иной», своим детям оставлял лишь скромное жилище в виде каменного грота или дупла в дереве. Позже в «наследство» даже «завещалась» грубая глиняная и деревянная посуда, примитивные кремневые орудия и прочая нехитрая утварь для быта и охоты. Кроме того, пращуры оставляли своим потомкам совершенно непознанную, пугающую своими масштабами и необъяснимыми явлениями природу. Чтобы сохранить жизнь и продолжить существование рода каждому последующему поколению (вплоть до нашего времени) приходилось вести сложную, очень тяжелую борьбу. Эти события отстают от наших дней на сотни тысяч, а может быть и десятки миллионов лет.
Со временем человек научился не только накапливать и преумножать полученное от старших поколений добро, но и значительно улучшать потребительские свойства всего, чем он располагал. За тысячелетия собственной истории человек создал и накопил несметные богатства во всем своем проявлении и многообразии, массу того, что теперь для многих из нас является предметом особого вожделения.
Какой бы путь исследования богатства мы не избрали, в самом начале нам следует признать: оценка содержания этой категории находится в черте ряда психологических проблем, в которых на первый план выступает вопрос об отношении различных психологических функций и различных видов деятельности человеческого сознания.
Если такие современные науки, как биология, психология или социология рассматривать с точки зрения стороннего, безучастного наблюдателя, может созреть мнение: каждая из них есть уникальная, но ограниченная дисциплина. Действительно, биологию, зачастую, мы воспринимаем как предмет, призванный раскрыть совокупность вопросов о живой природе, о жизни. Психология помогает нам выявить правила сознательного поведения человека, раскрыть его «душевные порывы». А социология «отвечает» за изучение и раскрытие тайн и законов общественного развития. Между тем, при известной узости предмета исследования, каждая из отмеченных дисциплин выстраивает собственную логику вокруг одного и того же явления - вокруг человека.
Несмотря на то, что человеком, его поведением, здоровьем, образом жизни, физиологическими комплексами и прочее занимаются многие науки, большая часть вопросов, как и прежде, остается неосвещенной. По-видимому, не следует сокрушаться по поводу того, что каждая из названных дисциплин имеет затруднения, например, в обозначении единства своего предмета или в выборе объектов изучения.
Как и во многих других случаях, приоритет в изучении того, как возникла теория богатства (если выражаться точнее - элементы учения о богатстве), принадлежит «первой» из наук - философии. Это и понятно, поскольку вопрос о богатстве и его роли в жизни людей возник в древности, когда наука еще не успела дифференцироваться и традиционные философы того времени, занятые изучением действительности, натурального положения вещей, кроме решения дежурных вопросов занимались и более конкретными, так сказать, частными вопросами. Именно поэтому первые философы, чьи труды, несмотря ни на что, все же дошли до нас, не просматривали тесной связи предложенных ими гипотез о сути происхождения богатства с философией истории.
Если мыслители Древней Греции и Древнего Рима не пришли к удовлетворительному результату в этом вопросе, то причину неудачи следует искать не в том, что они не предприняли попыток обобщить законы. Причина, скорее, крылась в непродуктивности используемых методов; возможно - в отсутствии предмета изучения как такового. Не случайно, суть психологии homo oeconomicus , их эмоциональная глухота, жажда новых приобретений, социальная разобщенность, - так отмечено в предисловии к докладу Дж. Стиглица о реформе мировой валютнофинансовой системы, - представляется как продукт академической экономической науки [4, с. 36].
Но, следует помнить: с давних пор проблема богатства привлекала исследователей из различных областей знаний. Отчасти и сами древние любомудры чувствовали потребность включить в свое изложение исторических событий, приведших человечество к почитанию богатства, всевозможные знания, догадки и предположения из мира обычаев, культуры, нравственности, психологии древних людей. К слову, мы не намерены, по примеру Т. Гоббса, считавшего науку о человеческом теле «наиболее полезной частью физики…», превозносить «заслуги» философии больше, чем это следует делать.
Впоследствии, в связи с ростом познавательного потенциала, приобретенного человечеством, от общей системы научных знаний отпочковался целый комплекс наук. Возникли такие науки, как антропология, этнография, археология, социология, этика, психология, психоанализ, лингвистика и многие другие науки. Каждая из них внесла свой вклад в понимание того, что на самом деле есть богатство. Действительно, разве мы способны понять что-либо о богатстве, не изучив человека, его потребности, пристрастия, умения, наклонности; не распознав и не описав его фактический психологический портрет. Не увидев за единичным человеком архаичное племя, первобытную семью, древнее государство или современное общество с его законами и моралью.
Безусловно, можно возразить. Дескать, человек и как биологическое существо, и как социальное явление давно изучен, рассмотрен, как говорят, «со всех сторон»; науке давно известны самые потаенные его «уголки». Стоит ли в очередной раз возвращаться к тому, что уже самым тщательным образом исследовано?
В этом вопросе мы придерживаемся иной точки зрения, считая, что человек совершенно не познан, а большая часть его многочисленных тайн даже не обозначена в числе проблемных научных областей. В связи с этим воссоздание физического облика человека, выяснение его характерных особенностей, допустим, размеров черепной коробки, способности говорить и мыслить, функционального предназначения рук, скорости и манеры передвижения есть предпосылка для более глубокого проникновения в духовный мир человека, тайны происхождения человеческой речи, древнейшей психологии. Не без причин считают: наиболее полноценным источником знаний в этом случае является антропология.
Для объяснения того, как зародилась, получила развитие способность говорить, надо обратиться, помимо прочего, к тем ее истокам, которые кроются в палеобиологии верхнетретичных антропоидов. Именно в этот период появились предки человека с зачатками речи, предрасположенностью к осмысленной трудовой деятельности. Здесь мы можем «пройти» стороной вопрос о том, в каких условиях жил и совершенствовался древний человек; как он обустраивал свой быт и защищал свою семью; чем питался. Для целей познания сути и природы богатства нас в первую очередь, интересует проблема первобытного культа: как и когда человек осознал потребность в вере и веровании, произнес первые слова, осознал ценность вещи и встал на ее защиту. Этот и многие другие вопросы до сих пор остаются среди неразгаданных тайн. Можно ли их открыть без археологии, повседневного поиска доказательств духовного развития наших пращуров?
Человечество развивается неравномерно. Одни народы познали так называемые блага современной цивилизации. В то время как другие тысячелетиями обустраивают свою жизнь на патриархальном фундаменте; ничего не меняют и не стремятся что-либо изменить. Именно этот, «допотопный» порядок, кое-где еще наблюдаемый в XXI в., дает ценные сведения о том, как жили (как могли бы жить) наши далекие предки. Обычаи, социальная иерархия, традиции охоты, быта, семейного поведения, опыт обучения навыкам - все это в той или иной степени отвечает на вопрос о содержании бытия и духовных переживаниях первых людей. Этнография, если и не в состоянии «развернуть» перед нами полную, исчерпывающую картину возникновения человеческой истории во всех ее проявлениях, во всяком случае, существенным образом приближает нас к истокам.
Помимо археологии и этнографии поиск ответа на вопрос о богатстве, «человеческого» к нему отношения нимало «занимает» историю, в которой генезис богатства выступает в качестве одной из составных, но часто не самых заметных частей.
Отдадим должное языкознанию и фольклористике. Для расширения знаний о рассматриваемом предмете первая важна потому, что в языке мы получаем отражение и истории общества, и истории частного явления - богатства. В этой перспективе язык представляет собой совершенно естественный объект, незаменимый компонент (если хотите - атрибут) человеческого разума, физически представленный в мозге и всецело входящий в биологическое наследие человеческого рода. Другая же научная дисциплина - фольклористика - способствует более глубокому проникновению в народное творчество, мифологию, различные формы и виды многочисленного идолопоклонства, что во многом определяет характер отношений между человеком и устойчивым психологическим феноменом, воспринимаемым нами как «богатство».
Не случайно и религия, в какой бы форме она не представала перед человеком, на первых порах переплетается с натуралистической мифологией, а всевозможные мифические боги одновременно выступают и воплощением нравственного мирового порядка и миродвижущими силами природы.
Проще говоря, нет ничего удивительного в том, что круг возможных вопросов, относящихся к проблеме возникновения и использования богатства, широк и многогранен. Уже первые шаги человеческого сознания к пониманию существенности этого явления можно рассматривать как начало истории богатства. Примечательно, но эти первые опыты не исчезли из сознания человечества, не утратили своего значения вплоть до настоящего времени. И от первоначальных, скорее всего, бессознательных иллюзий «живые» нити впечатлений тянутся ко всем последующим поколениям людей.
Если кратко, в нескольких словах сформулировать результаты исторических работ, связанных с проблемой богатства, можно сказать, что все решение этой проблемы, которое предлагалось различными авторами от самых древних времен и до наших дней колебалось между двумя крайними полюсами. Первый из них - отождествление богатства с абсолютным благом, добром для человека; второй полюс, наоборот, выражал противное мнение: богатство - есть зло и его только так следует рассматривать.
И выход из этой цикличности не найден до сих пор.
Значит ли это, почти обреченное «…не найден до сих пор…», что подобный поиск лишен какого-либо смысла? А целая армия, исследовавшая до нас вопрос: «что значит богатство для человека?», трудилась впустую? Возможно ли, что эти сомнения, наоборот, выделяют из крепко запутанного «клубка проблем» самое главное и ценное; так сказать творческое «зерно» - идею обязательного следования по намеченному пути?
На самом деле, нам следует уяснить: будет сложно доказать правоту и справедливость любого из возможных посылов по заданной теме до тех пор, пока мы основательно не разберемся в самой природе, естестве категории «богатство». В этом вопросе мы не стоим на стороне тех, кто считает: дилемму о богатстве разрешить невозможно; поэтому и заниматься этой категорией как научно-исследовательской единицей бессмысленно; зачем напрасно изводить время на изучение явлений, отношение к которым изменить нельзя? Лозунгом в этом случае может стать малопродуктивное озарение: человек слишком противоречив и разнообразен, чтобы все в едином порыве восхищались или же, наоборот, отвергали богатство во всем его разнообразии.
Очевидно, что всегда будут те, кто богатство защищает, видит в нем добро. Будут и те, кто богатство проклинает и низводит его до уровня самых низких, нечестных и неэтичных изобретений человека. Каким бы, по форме, богатство ни было на самом деле. В виде огромного количества денег на банковских счетах, ничем неограниченного права управлять производ- ственно-торговыми мощностями, подчиненным человеческим капиталом, поистине исполинского здоровья или природной красоты, врожденной удачливости, смекалки или гениального ума, уникального дара лечить и обучать людей - все перечисленное подчеркивает обилие представления о рассматриваемом субъективном феномене. Между тем это перечисление никак не выказывает предпочтений, не выдает качества оценок, не обрисовывает в красках (тонах и полутонах) границы (плохой или хороший; много или мало; полезное или вредное) явления.
Все науки, в той или иной мере, но используют упрощающие допущения. Например, в педагогике - науке с тысячелетней историей - фигурируют идеальные модели отношений между учителями и учениками; различного рода отклонения символизируют девальвацию общепринятых среди людей ценностей. Физики, ставя опыты над предметами, «помещают» их в идеальные условия: вакуум, среду без трения, либо полностью исключают все виды физического воздействия, кроме одного, допустим, атмосферного давления. Статистики часто выводят умозаключения относительно уровня корреляции явлений в экономике (политике, демографии и т.п.) отбрасывая множество влияющих моментом; как будто их не существует вовсе или их воздействие ничтожно мало. Упрощенная модель избавляет исследователя от излишних факторов, дает возможность сконцентрироваться на тех аспектах, которые вызывают научный интерес. При этом все понимают, что использование такой модели на практике не возможно, и ученый должен быть готов вернуть в модель исключенные факторы.
Мы допускаем, что «история» особого внимания человека к богатству берет свое начало с момента, когда человек обзавелся способностью говорить или исторгать звуки, понятные для окружающих его соплеменников. Когда, как отмечают ученые французского Просвещения, «Меркурий… создал точную и правильную речь…» [5, с. 39]. При этом мы понимаем, что и «немой», до поры, обладатель собственности не жалеет для ее защиты ни здоровья, ни самой жизни. Всякий живой организм, даже далекий (с точки зрения биологических характеристик) от человека, с величайшим трудом расстается с тем, что ему принадлежит по праву или по какому-либо случаю.
Многочисленные, похожие друг на друга факты и умозаключения относительно жизни наших предков, указывают: каким есть сегодня отношение к «добру», богатству, золоту и деньгам, таково было некогда отношение к этим предметам и у древних народов. Другими словами, во все известные нам времена повсюду на земле царил этот культ; он очевиден и сегодня. И, хотя мы не ищем какой-либо смысл в вещах, где его совершенно нет, и не слывем апологетами «исторического пирронизма», мы не относимся к числу исследователей, раз и навсегда решивших для себя вопрос о времени зарождения власти богатства над человеком.
Научные идеи, правящие умами целых народов, претерпевают очень длинную эволюцию. Они, как известно, формируются крайне медленно, и при этом очень медленно исчезают. Однажды завоевав умы масс, просвещенного люда, целый ряд таких, даже в том случае, когда они совершенно «пусты» и не плодотворны, долгое время остаются неоспоримыми истинами, продолжают оказывать влияние на значительную часть общества. Так было с геоцентрической теорией Птолемея, учением Аристотеля о живых организмах, астрономическими наблюдениями и выводами по ним древнегреческого ученого Аристарха, математической сущностью природы Пифагора и целым рядом иных открытий, озарений и «доказанных» теорий планетарного уровня.
Человеческий мозг, при всем своем величии и мощи не является безупречным аппаратом; он часто рождает ошибочные решения.
Ссылки:
-
1. Циолковский К. Исследование мировых пространств реактивными приборами // Научное обозрение. 1903. № 5.
-
2. Добрынин С. Банкиры полюбили технологии // Профиль. 2012. № 8.
-
3. Грант В. Эволюционный процесс: критический обзор эволюционной теории. М., 1991.
-
4. Стиглиц Дж. Доклад о реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса. М., 2010.
-
5. Бросс Ш. О фетишизме. М., 1973.
Список литературы Исторические корни категории «богатство»
- Циолковский К. Исследование мировых пространств реактивными приборами//Научное обозрение. 1903. № 5.
- Добрынин С. Банкиры полюбили технологии//Профиль. 2012. № 8.
- Грант В. Эволюционный процесс: критический обзор эволюционной теории. М., 1991.
- Стиглиц Дж. Доклад о реформе международной валютно-финансовой системы: уроки глобального кризиса. М., 2010.
- Бросс Ш. О фетишизме. М., 1973.