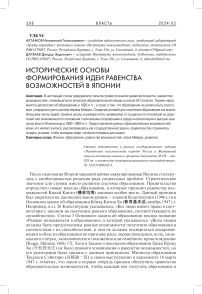Исторические основы формирования идеи равенства возможностей в Японии
Автор: Актамов И.Г., Дагбаев Д.Э.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Зарубежный опыт
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье предпринята попытка провести анализ развития концепта «равенство возможностей», появившегося в японской образовательной теории в начале ХХ столетия. Термин оформился в дискуссиях об образовании в 1920-е гг., а тезис о том, что образование не должно быть классовым, утвердился уже в ранний период Мэйдзи. Создание условий для получения образования как можно большему числу людей, прием в школы и университеты независимо от социального положения их родителей или экономического положения стали весьма популярными в среде интеллигенции и высших эшелонах власти Японии еще в 1920-1930-е гг. Предоставление равных образовательных возможностей всем, кто желает учиться, рассматривалось как государственная задача, правительство стремилось создать условия, чтобы молодые люди «не были потеряны для нации».
Япония, образование, «равенство возможностей», эпоха мейдзи, развитие
Короткий адрес: https://sciup.org/170205569
IDR: 170205569 | УДК: 94 | DOI: 10.24412/2071-5358-2024-2-298-306
Текст научной статьи Исторические основы формирования идеи равенства возможностей в Японии
Статья подготовлена в рамках государственного задания «Памятники письменности народов России и Внутренней Азии на восточных языках и архивные документы XVIII – нач. XXI вв. в контексте межцивилизационного взаимодействия», № 121031000302-9.
После окончания Второй мировой войны оккупированная Япония столкнулась с необходимостью решения ряда социальных проблем. Стратегическое значение для страны имело развитие системы образования. Правительство определило новые идеалы образования, в которых принцип равенства возможностей Кикай Кинто (^£$#) занимал особое место. Данный принцип был закреплен на законодательном уровне – в новой Конституции (1946 г.) и в Основном законе об образовании Кёику Кихон Хо (^WS^/S; ноябрь 1947 г.). Например, в ст. 26 Конституции указывалось: «Все люди имеют право в соответствии с законом на получение равного образования, соответствующего их способностям». Статья 3 Основного закона об образовании носила название «Равные возможности в образовании», в которой указывалось: «Всем людям должны быть предоставлены равные возможности получения образования в соответствии с их способностями, и они не должны подвергаться дискриминации в области образования по признаку расы, вероисповедания, пола, социального статуса, экономического положения или семейного происхождения» [Kaigo, Shimizu 1966: 17]. Хотя в Законе о школьном образовании Гакко Кёику Хо (学校教育法) не было прямого упоминания о равенстве возможностей, но его реализация была связана с данным принципом. Министр образования Такахаси Сэйитиро (高橋誠一郎) в своем выступлении в парламенте 18 марта 1947 г. отметил, что закон в первую очередь призван обеспечить «равенство образовательных возможностей, чтобы каждый мог получить образование в соответствии со своими способностями» [Ota 1978: 121]. Следует отметить, что в Законе о школьном образовании не содержалась информация об идеалах образования, речь шла об уровнях и структуре школьной системы. Можно сделать вывод, что концепция равенства образовательных возможностей Японии сформировалась в послевоенный период, когда она стала одной из составляющих государственной политики. Японский ученый-педагог Кайго Кацуо ( ж^вш) в своей статье «Современное образование» отмечает, что «равенство возможностей в образовании» – это «неотъемлемый компонент современного образования». В то же время он характеризует военный период как «фашистский» и «отрицающий современное образование» [Kyoikugaku jiten 1954-1956: 216-217], подразумевая, таким образом, что «равенство возможностей» не могло иметь места в образовательной политике военного периода.
На протяжении всего послевоенного периода этой точки зрения придерживались как японские, так и иностранные ученые. Историк образования Мурата Судзуко ( 村田鈴子 ), объясняя, почему государство не создало женские университеты в 1930-х гг., утверждает: «Было слишком рано. Учитывая состояние японского общества в тот период, такие вещи, как равенство возможностей для мужчин и женщин, не признавались ни политически, ни юридически» [Murata 1980]. Связывая «равенство» с общественно-политическими процессами в Японии, Мурата видит требования равенства возможностей как нечто характерное только для демократии. Аналогичные взгляды были озвучены в результате дискуссий в 1980-х гг. в Германии. На вопрос, способствовал ли национал-социализм модернизации, видный немецкий историк ХХ в. Норберт Фрай выразил свою убежденность в том, что равенство возможностей – это «сложный, политически недвусмысленный» термин, применение которого к Германии 1930-х гг. – это «употребление... вне его исторического контекста» [Frei 1993: 376].
В своей монографии «Развитие движения за равенство возможностей» историк образования Акацука Ясуо ( 赤塚康雄 ) аналогичным образом ссылается на военный период в негативном ключе. Во введении, касаясь «фашистской системы образования», он описывает ее как характеризующуюся резким разделением между образованием для элиты и образованием для масс, в отличие от успешного стремления к равенству возможностей в образовании после 1945 г. [Akatsuka 2002: 5]. Байрон Маршалл в своем обзоре «политического дискурса об образовании» в современной Японии также подчеркивает, что только Основной закон об образовании «решительно делал равенство возможностей своей главной целью». Вместе с тем концепция равенства в образовании упоминается в главах книг Маршалла до 1945 г. просто как мотив реформ раннего периода Мэйдзи [Marshall 1994: 40-47, 62-80].
Принцип равенства возможностей не только был известен в довоенной Японии, но и был актуальной темой в дискуссиях об образовании. Сложилось мнение, что образование в 1930–1940-х гг. характеризовалось дискриминацией, неравенством и сознательным отказом от реализации реформ. В качестве подтверждения можно привести пример со школьным обучением, которое реализовывалось в духе «обучения имперского общества» (Кококумин но Рэнсэй皇国民の練成) в начале 1940-х гг. Вместе с тем период между 1925 и 1945 гг. велись дискуссии о перспективах развития системы образования, в которых вопрос равенства возможностей являлся одной из главных тем обсуждения. Призыв к реализации принципа равенства возможностей не следует отождествлять с призывами к демократии. В указанный период иде- алы социального равенства многими соотносились с идеей усиления роли государства: считалось, что более широкий доступ к образованию необходим для того, чтобы государство максимально использовало свои человеческие ресурсы.
Содержательные аспекты принципа «равенство возможностей»
Исторически реализация принципа равенства возможностей пришлась на 1960-е гг., когда высшее образование получило стимул для широкого распространения в развитых странах мира. В 1961 г. Организация экономического сотрудничества и развития инициировала проведение исследования на тему «Способности и возможности для образования». Полученные результаты содействовали расширению понимания и реализации конкретных мероприятий в данном направлении. Например, в США в 1963 г. был создан Комитет по равенству образовательных возможностей. В 1964 г. Министерство образования США заказало исследование, результаты которого были опубликованы в 1966 г. под названием «Равенство образовательных возможностей». Автор Джеймс С. Коулман выявил основные причины дискриминации в образовании: расовые, религиозные, национальные. Полученные данные выявили масштабы и отдельные аспекты проблемы. По результатам исследования были предложены пути решения обозначенных противоречий. Впервые термин egalite des chances был использован в 1909 г., а «равенство возможностей» – 1891 г. [Coleman 1966: 23]. Позже в философии образования была дана интерпретация концепции. В контексте американской модели образования об этом писал Джон Дьюи в своем труде «Школа завтрашнего дня», изданном в 1915 г.: «Демократия, провозглашающая равенство возможностей своим идеалом, требует образования, в котором обучение и социальное применение, идеи и практика, работа и признание значения того, что делается, едины с самого начала и для всех» [Dewey 1979: 404].
В отличие от либерального понятия равенства возможностей, которое сосредоточено на устранении препятствий на пути к равенству, социал-демократическая идея равенства делает акцент на позитивном вмешательстве государства для обеспечения «равенства результатов». Равные возможности в этом контексте рассматривались не столько как шанс для индивидуального развития личности, сколько как средство, позволяющее государству в полной мере использовать те слои населения, которые до сих пор были исключены из служения нации по причине отсутствия у них финансовых ресурсов, гендерной принадлежности или места жительства. Примеры этого этатистского понятия о равенстве можно увидеть в немецких дебатах об образовании в начале ХХ в. В 1914 г., например, Немецкая ассоциация учителей подвергла критике преобладавший в то время в Германии принцип распределения возможностей получения образования в соответствии с социальным положением как противоречащий интересам нации. Следуя формулировке, изложенной выдающимся просветителем и депутатом рейхстага Георгом Михаэлем Кершенштайнером, ассоциация вместо этого определила образование как «такой акт культуры сообщества, который передает определенные культурные ценности (из сфер религии, морали, знаний, искусства, техники, общественных обычаев и нравов) таким образом, чтобы они, в соответствии со своими способностями, высвобождали в себе эти особые культурные энергии на благо сообщества, на которое они способны» [Tews 2001: 119].
В Японии прочтение принципа равенства возможностей как выгодного для государства получило широкое распространение в конце 1930-х гг., когда правительство предприняло активные усилия по мобилизации имеющихся в его распоряжении человеческих ресурсов [Garon 1998]. Вскоре после того как в августе 1937 г. премьер-министром стал Коноэ Фумимаро (ЙЙЗЙ), он инициировал Движение за духовную мобилизацию нации Кокумин сэйшин доин ундо (ЮвЗШЖ®®)) с намерением призвать население к бережливости и сокращению потребления. В этих обстоятельствах такая интерпретация равенства приобрела господствующее положение в сфере образовательной политики. Как среди государственных чиновников, так и среди социальных групп опора на государство в реализации образовательных целей стала общим мотивом для большинства инициатив, касающихся реформ образования. Политические левые и правые в равной степени рассматривали равенство в образовании как нечто, что может быть достигнуто только благодаря вмешательству государства, и оно должно служить государству.
Хотя термин «равенство возможностей» появился в японских дискуссиях об образовании только в 1920-х гг., идея о том, что образование не должно быть классовым, утвердилась уже в ранний период Мэйдзи. Это означало разрыв со сложившимися устоями. Число школ для простолюдинов резко увеличилось в первой половине XIX в.; тем не менее в большинстве регионов менее половины населения получили какое-либо образование в течение десятилетий, предшествовавших Реставрации Мэйдзи. Одним из первых, кто призывал к образованию, не основанному на классовых различиях, был Маэдзима Хисока (й#Ж), сотрудник бакуфу – академии западного образования. В петиции 1866 г., адресованной сёгуну, в которой он выступал за отказ от использования китайских иероглифов для написания японского языка, Маэдзима заявил: «Основой государства является образование людей; это образование должно быть распространено среди людей независимо от того, дворянин ты или простолюдин» [Yoshida, Inokuchi 1950: 32]. Действуя по тому же принципу, в 1872 г. правительство Мэйдзи издало Указ об образовании (ГакусэйФО]), заложивший основу современной школьной системы, идущей от начальной школы к университету. В Указе четко указывалось: «Вся молодежь страны, независимо от социального положения, географического региона или пола, должна была получить начальное образование; кроме того, прием в средние школы также должен был основываться на способностях, а не на социальном статусе» [Kikuchi 1909: 141].
Равенство возможностей и образовательная реформа
Цель реформы по распространению всеобщего начального образования была фактически достигнута в самом начале ХХ в., когда посещаемость учреждений начального образования достигла практически 100%.
Японский перевод термина «равенство возможностей» впервые появился в словаре в 1916 г., когда в «Дай Нихон кокуго дзитэн» (ЗВЗИЙ#) было указано слово кикай кинто (ttow). Однако он существовал как юридический термин, означавший «равенство прав подписавших сторон в международном праве». В известном словаре Кодзиэн (ОФ 31) термин кикай кинто (flow) в значении равенства в образовании был впервые внесен во втором издании 1969 г., а фраза «равенство образовательных возможностей» кёику но кикай кинто (##®>ow) была добавлена только в четвертом издании 1991 г. [Shinmura 1991: 298].
Тем не менее термин кикай кинто (#ow) появился в дискуссиях об образовании значительно раньше, чем в указанных словарях. Недолго просуществовавший профсоюз учителей Кэймэйкай (^ВД£) включил его в свой список 1920 г., призывающий к реформе в четырех областях образования [Kido 1960: 164-185]. Несколько лет спустя чиновники из Министерства образования упомянули этот термин в дискуссии о вопросах расширения форм обучения для тех, кто окончил старшую ступень начальной школы в возрасте 14 лет. Министерство образования и Министерство обороны разработали план создания центров подготовки молодежи сэйнэн кунрендзё (wwim), в которых молодым людям 16–20 лет, не призванным в армию, читали курсы по этике, гражданскому праву и другим предметам [Kubo 2001: 103].
Значимым моментом явилось то, что в 1917 г. правительство создало крупнейший в истории современной Японии консультативный орган по вопросам образования – Специальный совет по образованию Риндзи кёику кайги (Ё®М #С#г?й®). Данный орган проводил заседания до 1919 г., в качестве основных результатов можно выделить рекомендации по финансированию начального образования, о внедрении мер по повышению посещаемости средних и профессиональных школ. Международная конкуренция в области образования, которая особенно ярко проявилась после Первой мировой войны, оказала влияние и на Японию. Совет призвал к увеличению роли частных учебных заведений в удовлетворении неуклонно растущего спроса на высшее образование. В ответ на эту рекомендацию в 1919 г. правительство внесло поправки в Постановление об университетах Дайгакурей (^4), чтобы позволить частным учреждениям подавать заявки на получение статуса университетов (Дайгаку – привилегия, которой обладали государственные университеты). К концу 1920-х гг. четырем учреждениям удалось получить статус Дайгаку (^?). Повышение статуса было сопряжено с усиленным контролем со стороны государства. Для сохранения своего статуса частные университеты должны были выполнять строгие требования в отношении финансирования, помещений и оборудования, организации учебного процесса [Kubo 2001: 104].
Быстрый рост числа учащихся в средней школе в 1920-х гг. привел к увеличению числа средних образовательных учреждений. Рост уровня безработицы в 1920-е гг. увеличил спрос на высшее образование. Те, кто не мог найти достойную работу, часто предпочитали получать образование как можно дольше, в то время как другие стремились перейти на следующий уровень образования, чтобы улучшить свои позиции на рынке труда.
Ограниченное число высших школ кото гакко (IRl^^fe) было основным практическим препятствием для расширения доступа к высшему образованию. Совет по образованию рекомендовал расширить число учреждений среднего образования, но оставил старшую ступень школы в качестве единственной, предоставляющей доступ к престижным государственным университетам. Исследователи часто критиковали не только тот факт, что высшие школы в 1920–1930-х гг. оставались единственным путем к государственным университетам, но и то, что особое место в образовательном процессе занимали иностранные языки. По их мнению, это был анахронизм периода Мэйдзи, когда университетские занятия проводились на иностранном языке. Несмотря на то что стремление к снижению уровня безработицы обусловливало необходимость обеспечения большего доступа к среднему образованию, среди выпускников университетов также был высокий уровень безработицы. После Первой мировой войны схемы занятости изменились. Число рабочих мест для «белых воротничков» выросло, но многие должности на частных предприятиях были небезопасными в противовес должностям в органах государственного управления. Популярный журнал Чуо корон (Ф^^|И) указал на эту проблему, посвятив специальный выпуск «трудностям выпускников университетов в поиске работы и гибели интеллектуального класса» в январе 1928 г. Поскольку безработные выпускники университета считались особенно восприимчивыми к социалистическим или коммунистическим идеям, многие усмотрели связь между неустроенностью выпускников высших учебных заведений и распространением «опасной мысли социалистов и коммунистов». Даже те, кто не считал лейбл «опасным», например, прогрессивный журналист Оя Сойчи (^cW-) [Gordon 1987: 267], отмечали связь между высоким уровнем безработицы среди выпускников университета и процветанием левых идей. Забота о противодействии возникновению «опасных мыслей», таким образом, часто фиксируется в пропаганде образовательной реформы. Многие из тех, кто участвовал в дебатах в предвоенное и военное время, выступая за равенство возможностей в образовании, в то же время предупреждали о возможности возникновения «опасных мыслей» [Kido 1937: 234].
Резкий количественный рост спроса на среднее и высшее образование сам по себе был достаточным основанием для многих участников дискуссии, чтобы придать первостепенное значение реформе всего образовательного сектора. Серьезность ситуации усугублял экономический кризис с его реальными и предполагаемыми последствиями для выпускников школ. Наряду с заботой о расширении образовательных возможностей, дебаты об образовании были вызваны антиэлитарными элементами, призванными противостоять проблеме недовольной интеллигенции, и часто фокусировались на участии не частных учреждений, а государства в системе образования как единственном способе эффективно решать многие проблемы, стоящие перед обществом.
Почти все группы, партии и отдельные лица, участвовавшие в дебатах, начинали свои предложения с заявления, описывающего недостатки существующей системы образования. Несмотря на различия в их политической ориентации, различные авторы имели вполне здравое понимание этих недостатков. Прежде всего, они стремились преодолеть предполагаемый разрыв между существующими институциональными структурами и изменившимся социальным контекстом и повысить равенство образовательных возможностей, особенно для социально незащищенных слоев населения. В рамках равенства возможностей для социально незащищенных слоев населения все три исследовательские группы хотели продлить обязательное образование с 6 до 8 лет, отменить элитарную высшую школу и унифицировать систему высшего образования, устранив разницу между университетами (Дайгаку ) и колледжами (Сэнмон Гакко#MW). С аналогичными требованиями выступили и другие участники дебатов о реформе. В их число входили лоббистские группы, такие как ассоциация учителей Тейкоку Кьёкукай (ФИ^#^), Ассоциация директоров средних школ (Зенкоку Чюгаку Кочо Кёкай^H Ф^^-^Шг?) и Мейкейкай (^^), ассоциация выпускников Токийской высшей педагогической школы.
Социальный эффект призыва к равенству возможностей для получения образования также проявилось в, пожалуй, самом влиятельном из всех предложений – Плане реформы системы образования 1931 г. «Кёику сэй до кайкаку ан» (Й#И®Й$^), разработанном Кёику Кенкюкай (^#МЯж). План начинался с перечисления «дефектов нынешней системы», его первый пункт гласил: «Нынешняя организация образования не соответствует требованию равенства образовательных возможностей. В настоящее время, не имея достаточно денег для обучения, даже человек со способностями и талантом не может поступить в школу на уровне средней школы или выше. Более того, возможности получения общего образования вне школы крайне ограничены» [ i shikawa 1962: 702-707 ].
Влияние Абэ Сигэтака, чьим центральным идеалом реформы образовательной системы было «равенство образовательных возможностей» [Sato 1984: 82], вероятно, было решающим в повышении степени равенства образовательных возможностей до ключевой концепции в Кёику Кенкюкай (^ЮЯЙж). Абэ также является автором статьи о равенстве возможностей в образовании в 5-томном Образовательном словаре (Кёикугакудзитенs#w*), который он редактировал для Иванмами Шотен (ёЖШ/й) в период с 1936 по 1939 г. В Европе Абэ писал в своей статье: «Возможности образования разнятся, поскольку дети сильно различаются в зависимости от класса, к которому они принадлежат», в то время как в Соединенных Штатах «они систематически распределяются поровну среди всех детей». Японская система образования должна быть реформирована, – продолжил он, – в соответствии с принципом равенства образовательных возможностей, который он определил как «предоставление равных возможностей для получения образования всем детям и молодежи, независимо от социального положения их родителей или экономического положения» [Kyoikugaku Jiten 1936-1939].
Как ясно дал понять Абэ в статье 1937 г., он стремился ни к чему иному, как к «созданию системы образования для масс» путем ликвидации существующей многопрофильной системы и продления периода обязательного школьного образования [ a be 1971: 33-34 ] . т акой специалист в области образования, как Абэ, который искал вдохновение в других странах, был не единственным, кто подчеркивал социальный аспект в своем призыве к большему равенству в образовании. Даже реакционный Тойо Бунка Гаккай (жжм^) под руководством Хиранумы Киитиро (¥ШЙ-№) положительно отзывался о равенстве возможностей, утверждая необходимость «устранить ущерб, причиненный окостенением системы образования, и в то же время предоставить равные образовательные возможности тем, кто желает учиться, быть образованными», чтобы они «не были потеряны для нации» [Monbusho 1937: 63].
Корни равенства возможностей в образовании возникли задолго до оккупации Японии войсками США. Идея равенства возможностей обсуждалась в высших кругах Японии еще в 20–30-х гг. ХХ в. Правда, в этот период сама концепция не предполагала демократизацию общества, это был призыв к максимальному использованию человеческих ресурсов для нужд империи.
Список литературы Исторические основы формирования идеи равенства возможностей в Японии
- Abe Shigetaka Kyoiku kaikaku ran / Abe Shigetaka // Iwanami Shoten. 1937. P. 33-34.
- Akatsuka Yasuo . 2002. Senga kyoiku kaikaku to seinen gakko: Shiryo de mini kikai kinto undo no tenkai. – Creative 21. P. 67-68.
- Coleman J. 1966. Equality of Educational Opportunity. –Inter-university Consortium for Political and Social Research. P. 23-47.
- Dewey J. 1979. «Schools of To-Morrow». In 1915. – The Middle Works, 1899–1924. Vol. 8. Illinois: Southern Illinois University Press. 584 p.
- Frei Nt. 1993. Wie modern war der Nationalsozialismus? – Geschichte und Gesellschaft. № 19(3). P. 367-387.
- Garon Sh. 1998. Molding Japanese Minds: The State in Everyday Life. Princeton: Princeton University Press. 336 p.
- Gordon A. 1987. The Right to Work in Japan: Labor and the State in the Depression. – Social Research. Vol. 54. No. 2. P. 247-272.
- Ishikawa Junkichi . 1962. Sogo kokusaku to kyoiku kaikaku an: Naikaku Shingikai, Naikaku Chosakyoku kiroku. Tokyo: Shimizu Shoin. 1692 p.
- Ito Akihiro 伊藤彰浩. 1993. Koto kyoiku kikan kakuju to shin chukanso keisei In Gendai shakai e no tenke, vol. 3 of Shirizu Nihon kingendaishi: Kozo to hendo Tokyo: Iwanami Shoten. P.145-179.
- Kaigo Tokiomi , Shimizu Ikutaro . 1966. Kyoiku, shakai Sengo nijiinen shi Tokyo: Nihon Hyoronsha. 384 p.
- Kido Wakao . 1960. Kyoshi no jikaku to danketsu” . In Meiji, Taisho-ki no kyoiku undo . Tokyo: San’ichi Shobo. 275 p.
- Kikuchi Dairoku. 1909. Japanese Education: Lectures Delivered in the University of London. London: John Murray. 414 p.
- Kubo Yoshizo 2001. Gendai kyoiku shi jiten . Tokyo: Tokyo Shoseki. 596 p.
- Kyoikugaku Jiten (ed. Kido Mantaro. Iwanami Shoten). 1936–1939. 464 р.
- Kyoikugaku Jiten (ed. by Heibonsha). 6 vols. 1954–1956. 387 р.
- Marshall B.K. 1994. Learning to Be Modern: Japanese Political Discourse on Education. Boulder: Westview Press. 320 p.
- Monbusho Kyoiku Chosabu . 1937. Gakusei kaikaku shoan. – Monbusho. 153 p.
- Murata Suzuko 1980. Waga kuni joshi koto kyoiku seiritsu katei no kenkyii . – Kazama Shobo. P. 56-59.
- Ota Takashi . 1978. Sengo Nihon kyoiku shi . Chiba: Iwanami Shoten. 1978. 272 p.
- Sato Hiromi . 1984. Abe Shigetaka ni okeru kyoiku seido kaikaku ron no kenkyu: Kyoiku seido kaikaku to ‘kyoiku no kikai kinto. Tōkyō Toritsu Daigaku Kyōikugaku Kenkyūshitsu. – . P. 75-98.
- Tews J. 2001. Deutsche Einheitsschule: Freie Bahn Jedem Tiichtigen. Berkekey: University of California Libraries. 132 p.
- Yoshida Sumio , Inokuchi Yuichi .1950. Kokuji mondai ronshu. – Fuzanbo. 283 р.