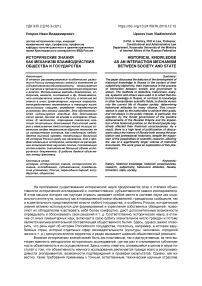Исторические знания как механизм взаимодействия общества и государства
Автор: Упоров Иван Владимирович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности развития в России исторических знаний в контексте их субъективности/объективности, показывается их значение в процессе взаимодействия общества и власти. Использованы методы диалектики, историзма, анализа, системный и др. Отмечается, что исторические знания в России, в отличие от знаний в иных гуманитарных научных отраслях, непосредственно вплетаются в текущую жизнь российского социума, определяя поведенческие установки для многих граждан. Это обстоятельство используется властью для достижения своих целей, причем не всегда в интересах общества. В частности, отрицание советской властью позитивных достижений Российской империи и навязывание этой исторической позиции советским людям негативным образом повлияли на их историческое сознание. Как следствие, наблюдается высокий уровень политизации дискуссий об истории России среди как населения, так и профессиональных историков, несмотря на расширение возможностей научного поиска, позволяющих использовать значительно больший объем исторических документов. В работе дается объяснение этому феномену.
Короткий адрес: https://sciup.org/149133908
IDR: 149133908 | УДК: 930.2:[316.3+321] | DOI: 10.24158/fik.2019.12.12
Текст научной статьи Исторические знания как механизм взаимодействия общества и государства
На протяжении существования исторической науки продолжается спор о степени объективности исторических исследований и, соответственно, субъективности самого исследователя. В этом смысле история как научная отрасль занимает особое место в системе науки как социального института, поскольку как в повседневной жизни обывателей, гражданских сообществ, так и в деятельности представителей власти любого государства, и особенно России, исторические знания активно используются для формирования и укрепления собственных убеждений, позволяют их обладателям чувствовать себя более комфортно, дают дополнительные возможности оправдывать и обосновывать свои решения и т. д. Соответственно, историческая наука, в отличие от иных гуманитарных наук, включает в свою орбиту значительное число граждан и потому является весьма влиятельной составляющей общественного бытия. Здесь, однако, важно оговорить, что речь идет об истории Российского государства, поскольку, например, в истории зарубежных стран, истории отдельных сфер жизнедеятельности (культуры, экономики, городской жизни и т. д.) дискуссии вполне корректны и редко вызывают широкий общественный резонанс.
Влияние исторических знаний может быть как позитивным, так и деструктивным, из чего вытекает важность методологии исторических исследований, где как раз и сталкиваются субъективность-объективность в их осуществлении. Здесь нужно отметить сложившийся в целом в науке постулат о том, что объективность научного исследования заключается прежде всего в воспроизводимости экспериментов, возможности подтверждения и проверки результатов. Однако, как известно, такие требования применимы к точным, естественным, техническим научным отраслям, обладающим, в частности, большим арсеналом измерительных средств. В отношении общественных наук ситуация сложнее. Поэтому трудно согласиться с А.В. Леопой в том, что «понятие объективности вполне применимо в исторических исследованиях, если определять его как данные, достоверность которых подтверждена научными методами» [1, с. 39]. Дело в том, что достоверность сведений о самих фактах в исторической науке чаще всего не оспаривается (во всяком случае применительно к Новому и Новейшему времени), вопрос заключается как раз в субъективности выбранной для анализа методологии, нередко ставящей под сомнение объективность исторического исследования, в результате чего наблюдаются поразительные разбросы и зигзаги в оценке одних и тех же исторических событий. Так, роль И. Сталина в отечественной истории, несмотря на множество опубликованных документов в последние годы, по-прежнему является предметом непримиримых и ожесточенных споров, можно даже сказать, раздора в российском обществе.
Между тем возможности для исторических исследований значительно расширились. Так, становится доступным все больший объем архивных материалов, современные технологии позволяют быстро находить и анализировать огромный массив информации, который еще двадцать-тридцать лет назад, не говоря уже о более раннем времени, нельзя было и представить. К этому можно добавить естественным образом накапливающийся и обогащающийся опыт проведения исторических исследований (уже несколько столетий). Применительно к России следует указать на конституционно закрепленные запрет обязательной государственной идеологии и цензуры, свободу научного творчества (ст. 13, 29, 44 Конституции России [2]), чего не было ни в Российской империи, ни в Советском государстве.
Однако достижения научно-технического прогресса и выверенные юридические формулировки в Основном Законе страны, присущие современной цивилизации, похоже, мало меняют состояние исторической науки с точки зрения субъективности/объективности проводимых исследований и соответствующих исторических знаний и взглядов.
Такое положение не может не иметь объяснения. Как отмечается в литературе, «историческое знание представляет собой функционально важный элемент социальной памяти, которая в свою очередь является сложным многоуровневым и исторически изменчивым феноменом. …По-мимо рациональной традиции сохранения знания о прошлом существуют коллективная социальная память, а также семейная и индивидуальная память, в значительной степени основанные на субъективном и эмоциональном восприятии прошлого. Несмотря на различия, все типы памяти тесно связаны между собой, их границы - условны и проницаемы. Ученое знание влияет на становление коллективных представлений о прошлом и, в свою очередь, испытывает воздействие массовых стереотипов. Исторический опыт общества был и во многом остается результатом как рационального осмысления прошлого, так и его интуитивного и эмоционального восприятия» [3, с. 9].
Следует согласиться с тем, что историческое знание в России имеет более широкое понимание, чем знание в иных гуманитарных научных отраслях, и прежде всего потому, что историческое знание непосредственно вплетается в текущую общественную, государственную, индивидуальную жизнь российского социума. Можно даже предположить, что в России жизненная позиция большинства субъектов жизнедеятельности - физических лиц (простых граждан, должностных лиц, активистов общественных организаций и т. д.), во всяком случае в долгосрочном плане, определяется теми историческими знаниями, которые они получили в школе (вузе), осознали (вложили в подсознание) и определенным образом конвертировали в конкретные поведенческие установки.
В реальности это явление находит отражение в самых разных формах, в том числе имеющих неоднозначные последствия. Например, исторические знания и, соответственно, память о Победе в Великой Отечественной войне у российского народа священны и защищаются на всех уровнях в течение уже нескольких десятилетий практически при неизменном отношении к этому событию, несмотря на смену в начале 1990-х гг. общественно-экономической формации (переход от социализма к капитализму). И в этом контексте спустя почти семьдесят лет после окончания войны, поскольку так называемые ОУН и УПА существуют в историческом сознании российского общества как украинские организации фашистско-националистического толка, одним из руководителей которых являлся С. Бандера, соответственно, обобщенным понятием «бандеровцы» многие россияне стали называть вооруженные украинские формирования, противостоящие ополченцам самопровозглашенных ДНР и ЛНР в вооруженном конфликте, возникшем в 2014 г. в Донецкой и Луганской областях Украины. Для части российской молодежи такие события обусловили их участие в качестве добровольцев на стороне ополченцев, олицетворяющих русскоязычное население, и в начальной стадии этого конфликта данное явление имело немалый масштаб. На наш взгляд, такое уникальное для России явление (оно еще ждет своих исследователей) вряд ли могло иметь место, если бы исторические знания российских добровольцев о войне, фашистах, бандеровцах и их преступлениях оказались бы иного содержания.
Отсюда вытекает важность формирования исторического сознания общества. Здесь имеются проблемы. Так, в настоящее время в России историческое сознание разорвано, в нем весьма контурно просматривается единство. Это, в свою очередь, есть результат далеко не всегда последовательной политики Российского государства на протяжении жизни целого ряда поколений, когда со стороны государства наблюдается склонность к преувеличению (преуменьшению) и выборочности «нужного» («ненужного») исторического отечественного опыта и, соответственно, жителям страны навязываются некие исторические оценки, которые в дальнейшем нередко опровергаются, что разделяет общество (причем как профессиональных историков, так и обывателей) по разным точкам зрения (доходящим порой до разных сторон баррикад), негативно влияя на фактор сплоченности социума перед вызовами современности и будущего.
Так, еще сравнительно недавно курс истории КПСС был фундаментальным для любого образовательного учреждения Советского государства, его читали тысячи профессоров и доцентов, все достижения в стране неизменно связывались с коммунистической партией. Вдруг после 1991 г. КПСС не стало. Более того, партия была обвинена в преступлениях против общества, и даже предпринимались попытки учинить настоящий суд над этой бывшей организационно-идеологической монополией советского периода [4]. А что же историки? Ведь на них, профессиональных ученых, смотрели миллионы российских граждан, ожидая разъяснений и комментариев по поводу внезапно изменившихся оценок советского прошлого, в котором они, граждане, сами же жили и получали от властей совершенно иные трактовки своего бытия. А историки, как мы полагаем, ориентировались на позицию новой власти, и прежде всего президента России Б.Н. Ельцина, и видели, как вчерашний партийный функционер, сделавший карьеру в КПСС, выходит из партии, которой когда-то клялся в верности, и принимает меры по ее ликвидации.
В этом контексте на рубеже 1980-90-х г. наблюдалось впечатляющее и неповторимое для страны явление, которое уже можно назвать историческим фактом, когда члены КПСС публично разрывали свои партийные билеты, бросали их в уличные костры, доказывая тем самым личный разрыв с теперь уже критикуемым и осуждаемым коммунистическим прошлым. Так, по воспоминаниям бывшего тогда депутатом Верховного Совета РСФСР С.Н. Бабурина, «осенью 91-го оставаться коммунистом означало опуститься на самое дно. Партбилеты демонстративно рвут, сжигают и топчут в грязи. А особо предприимчивые продают красные книжицы иностранцам, на сувенирном рынке за “честь и совесть эпохи” просят от ста долларов» [5]. (Такое поведение само по себе свидетельствовало об определенной ущербности общественных отношений того времени, однако мы не акцентируем на этом внимание.) Профессура-доцентура, вероятно памятуя, что первый президент России был избран народом, причем большинством избирателей, также быстро перестроилась и стала читать скорректированный в вузах курс отечественной истории, где КПСС расценивалась уже совершенно по-иному, в негативной коннотации.
Мы далеки от того, чтобы упрекать тогдашних вузовских преподавателей исторических дисциплин и ученых-историков (на то ни у автора, ни у кого-либо вообще нет морального права), и лишь констатируем, что многим из них, очевидно большинству, пришлось кардинально изменить историческое сознание, возможно против своей воли, и ретранслировать его в общество через обучение студентов, научные публикации и общественную активность. А обыватели при таком «разъяснении» так же относительно спокойно, образно говоря, «перешагнули через труп социализма» и зашли в капитализм, выразив свою волю на референдуме по принятию действующей российской конституции в 1993 г. Ни власть, ни научно-педагогическое сообщество не оказались готовы, причем до сих пор, дать честный и внятный комментарий произошедшим тогда событиям, связанным с историей и распадом СССР. На наш взгляд, следовало, если предельно кратко, пояснить, что идея коммунизма не прошла испытания временем и квалифицируется как утопическая; материально-техническую базу коммунизма к 1980 г., как предписывалось в Программе КПСС [6], построить не удалось даже в первом приближении; выбранное направление развития общества оказалось ошибочным, и социально-экономическая ситуация требовала перехода к рыночным отношениям, присущим капиталистическому способу производства. Но для такого признания нужно было незаурядное политическое мужество, а политиков с таковым не обнаружилось.
В истории России неоднократно наблюдались периоды, когда населению в массовом порядке, кардинально и неожиданно, зачастую публично (как с партбилетами) приходилось менять взгляды на историю страны - сообразно позиции новой властвующей силы. Здесь существенно то, что правящая элита России активно манипулировала и, по сути, до сих пор продолжает манипулировать историческими знаниями для укрепления политического влияния. Причем нередко это осуществлялось путем использования официальных научных структур, которые обосновывали новые исторические подходы к толкованию тех или иных событий, что находило отражение в самых разных формах.
Так, при всей противоречивости эпохи Ивана Грозного и личности самого царя на памятнике «Тысячелетие России», установленном в Великом Новгороде в 1862 г., его фигуры среди представителей царствующей династии нет, хотя он правил несколько десятилетий и существенно видоизменил государство; но при этом изображены барельефы его современников протопопа Сильвестра, первой жены царя Анастасии Романовой, окольничего Адашева. В литературе при указании причины обычно упоминается, что Иван Грозный учинил этому городу кровавое разорение, был жестоким правителем, поправшим христианские законы, казнил по своему произволу сотни подданных и т. д. - т. е., если обобщить, не достоин быть отмеченным, так как оставил в истории «кровавый след» [7, с. 29]. При этом фигура его деда, Ивана III, бывшего не менее скорым на расправы, изображена дважды. Не нашлось места также императрицам Анне Иоанновне и Елизавете, императору Павлу, из итогового списка были исключены флотоводец Ф.Ф. Ушаков, поэт Тарас Шевченко и т. д. В данном случае важно подчеркнуть, что речь идет не о том, правильно или неправильно составлялись списки достойных быть изображенными на указанном памятнике - составители имели право на свое мнение, и для каждого исключения находились свои резоны, а о том, что эти резоны так и не были систематизированы ни самой властью, ни творческой и научной общественностью того времени и не были представлены обществу. И получалось, что субъективное решение некой группы лиц (конечная инстанция - император) -как в этом, так и в других вопросах - становилось основой формирования официальной государственной истории, которая становилась обязательной.
Что касается профессиональных историков, то учитывалась позиция, которая совпадала с нужным для власти направлением, например Н.М. Карамзина, который характеризовал того же Ивана Грозного как «самодержца-мучителя», «зверя из вертепа слободы Александровской», «губителя», «тигра, упивающегося кровию агнцев» [8, с. 563, 572]. Этот официальный «российский историограф», как известно, отражал сформированную на рубеже XVIII–XIX вв. (не без участия его самого) позицию правящей династии Романовых (остававшейся неизменной до конца империи) о том, каким образом освещать династическую историю. Например, Екатерина II должна была представляться как просвещенная императрица, не имевшая практически никаких недостатков, при этом уголовное преследование и жестокое наказание А.Н. Радищева за его «Путешествие» не должно было подвергаться сомнению, несмотря на то что он описывал картины реальной жизни в России.
В целом в Российской империи отношение к истории Российского государства формировалось официальными государственными структурами. Такой же подход избрало и Советское государство после Октябрьской революции 1917 г. При этом большевики практически перечеркнули все достижения предшествующей истории монархической России. Наглядно-символично это было видно на примере того же памятника «Тысячелетие России», который на некоторое время заколотили деревянными щитами, назвав памятником «самодержавного гнета»; даже были предложения пустить его на переплавку. Возникла парадоксальная ситуация: одна официальная история (советская) перечеркивала другую официальную историю (имперскую), и это применительно к одной и той же стране, одному и тому же народу и одной и той же истории. Советскому обществу была навязана новая трактовка истории государства, и ее пришлось принять, поскольку иных вариантов, которые можно было бы свободно обсуждать, не существовало.
В конце 1980-х гг., особенно после распада СССР в 1991 г., маятник качнулся в другую сторону, и обществу вновь была предложена иная историческая концепция, исходящая из постулатов свободного демократического общества, правда, уже не столь жестко, как раньше. Для исследователей были открыты многие архивы, что существенно повлияло на оценки исторических событий, особенно для иностранных историков. Так, американский исследователь Дональд Ралли указывает на то, что ознакомление с российскими архивами заставило его изменить многие принципиальные положения о Гражданской войне в России [9]. Но одновременно в российских исторических трудах началась ожесточенная критика советского строя. Так, большевистская уголовная политика в первые годы советской власти в научных (!) работах характеризовалась как «человеконенавистническая, сатанинская идея тотального насилия» [10, с. 49]. А. Нысанбаев отмечает, что «при сознательно проводимом субъективизме (что тождественно идеологизированию) результаты исторического исследования заранее предписываются исследованию и действия такого “ученого” являются лишь имитацией познавательной деятельности. В этом случае выбираются только те исторические факты, которые допускают интерпретацию в духе требуемого результата; факты, не работающие на такую “теорию”, либо отвергаются как ложные, либо же замалчиваются» [11].
Достойно сожаления, что такого рода подходы историков к объяснению исторических событий и фактов пока еще сохраняются в современной России, во всяком случае касательно истории советского и постсоветского периодов. Особенно наглядно это видно в телевизионных ток-шоу на центральных каналах российского телевидения, в которых соглашаются участвовать профессиональные историки. Когда в таких предельно политизированных телепередачах ученые, заняв определенно бескомпромиссную позицию, с пеной у рта выкрикивают свои тезисы, более жалкого зрелища, связанного с исторической наукой, представить, наверное, невозможно.
Приведенные выше и другие примеры показывают, что во многих исследованиях, в разного рода дискуссиях об истории Российского государства субъективные оценки, подстраиваемые под собственную политическую позицию, еще преобладают, что противоречит присущей исторической науке методологии и мешает использовать достижения научно-технического прогресса для повышения эффективности научного поиска. Подобное явление, на наш взгляд, объясняется прежде всего тем, что само российское общество находится в стадии весьма противоречивого общественно-политического и социально-экономического развития, когда нет достаточной ясности, какое общество является целью совместных усилий российских граждан.
Тем не менее ученые-историки, на наш взгляд, должны находиться «над схваткой», и страницу за страницей писать Большую Летопись страны, стремясь к максимально возможной объективности и спокойному изложению аргументов. В этом смысле приведем пример с министром культуры России В.Р. Мединским, который совмещает в себе две ипостаси: ученого и чиновника (мы оставляем за скобками известный вопрос о его научной репутации). Так, оценивая пакт Молотова – Риббентропа, вокруг которого в последнее время ведутся яростные споры, он назвал это документ применительно к «конкретной внешнеполитической ситуации» обоснованным, но при этом одновременно счел недостойным оправдывать ссылками на подготовку к войне «тотальное беззаконие, террор против собственных граждан, массовые репрессии» [12].
Этот вектор, когда следует сдержанно, без надрыва, описывать события, не замалчивая и не выпячивая отдельные из них, и давать им взаимосвязанную оценку в корректных выражениях, и должен, как представляется, доминировать в исторической науке. Но для этого в России должно сформироваться независимое от политической конъюнктуры научно-историческое сообщество, которое позволит достигнуть сбалансированного общественно-исторического сознания. В любом случае историкам следует воздерживаться от политизации в своих исследованиях, иначе исторические знания по-прежнему будут инструментом влияния соответствующих политических сил, что не имеет к науке никакого отношения.
Ссылки:
Список литературы Исторические знания как механизм взаимодействия общества и государства
- Леопа А.В. Философский аспект проблемы объективности исторического знания // Дискуссия. 2014. № 1 (42). С. 37-39
- Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. 4-е изд., стер. М., 2019. 259 с
- Рудинский Ф.М. "Дело КПСС" в Конституционном суде. Записки участника процесса. М., 1999. 502 с
- Смирнов В.Г. Памятник государства Российского. М., 2008. 400 с
- Карамзин Н.М. Предания веков. Сказания, легенды, рассказы из "Истории государства Российского" / сост. Г.П. Макагоненко. М., 1988. 768 с
- Raleigh D.J. Doing Soviet History: The Impact of the Archival Revolution // The Russian Review. 2002. Vol. 61, no. 1. P. 16-24. DOI: 10.1111/1467-9434.00202
- Босхолов С.С. Конституционно-правовой кризис и уголовная политика // Правоведение. 1997. № 6. С. 49-54
- Нысанбаев А. Проблема объективности в историческом познании [Электронный ресурс]. URL: https://www.km.ru/referats/75BBB35600904E698988E5BEA65EE6E6 (дата обращения: 05.10.2019)
- Мединский В.Р. Дипломатический триумф СССР // РИА Новости. 2019. 23 авг