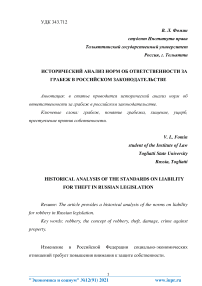Исторический анализ норм об ответственности за грабеж в российском законодательстве
Автор: Фомин В.Л.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 12-2 (91), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится исторический анализ норм об ответственности за грабеж в российском законодательстве.
Грабеж, понятие грабежа, хищение, ущерб, преступление против собственности
Короткий адрес: https://sciup.org/140262654
IDR: 140262654 | УДК: 343.712
Текст научной статьи Исторический анализ норм об ответственности за грабеж в российском законодательстве
Изменение в Российской Федерации социально-экономических отношений требует повышения внимания к защите собственности.
Грабеж - это деяние, которое стоит на втором месте по популярности после краж, оно наделено большей степенью общественной опасности, более дерзкое, демонстрирующее открытое пренебрежение нормами закона.
Согласно статистическим показателям, представленным официальным сайтом печатного издания, в России по итогам 2019 года на первом месте, по-прежнему, находятся кражи, следуют за ними мошенничество и грабеж. Хищения в общем объеме преступности составляют 53,5 %. Закономерность зависимости числа совершаемых преступлений от численности населения сохраняется на протяжении длительного времени - 79,7 % преступлений совершается в городах [2].
Грабеж не только общеуголовное преступление, известное человечеству с первых упоминаний о совершаемых преступлениях, это деяние, не знающее границ, причем границы для грабежа не ограничиваются ни земными, ни водными территориями. Древнейший состав преступления, сейчас имеющего статус конвенционного состава - морской грабеж или пиратство.
Если существуют государства, в которых хищения совершаются нечасто, то государств, свободных от данного преступления в мире нет. Грабежи известны всем правовым системам, включая религиозные, и всем сводам законов. Даже нормативные акты, которые не имеют прямого указания на состав преступления грабеж, включают его в состав ненасильственного разбойного нападения.
Государственная политика в области противодействия преступлениям против собственности также не всегда последовательна. Изменения в части увеличения наказуемости и криминализации не снижают уровня преступности, также не изменяют количественных показателей и примеры смягчения реагирования в виде депенализации или решений правоприменителя о назначении условного наказания.
Грабеж имеет давнее правовое отражение в нормативных актах. История ответственности за грабеж исходит от древних времен.
Рассматривать законы Древнего мира мы не будем, поскольку основной формат ответственности в них представлен как индивидуальное или коллективное отмщение за совершенное деяние доступными средствами.
Правом мстителя называл И.Я. Козаченко уголовное право Древней Руси. Сложно не согласиться с таким определением, поскольку опасность преступлений для общества в целом не рассматривалась, а представление о преступлении было как о деянии, причинившем конкретный ущерб.
Грабежи от библейских истин до норм законов были нравственно и законодательно запрещены и осуждаемы. При этом популярность этих видов деяний всегда была очень высокой. Грабежи и разбойные нападения были самостоятельным промыслом лиц, живущих на исключительно преступные доходы.
Невзирая на наличие такого явления как открытое нападение с целью хищения чужого имущества, грабёж не является исконно русским составом преступления. Появлением состава преступления мы обязаны римско-византийскому праву.
Исторически подход к уголовно-правовой охране был иным, УК РСФСР 1960 года воплощал разделение уровня наказания и соответственно общественной опасности деяний в зависимости от вида собственности, на которую посягал виновный [3].
Приоритет в правовой охране интересов собственности отдавался интересам государства, это и объясняет повышенные размеры наказаний и наличие самостоятельных специальных составов, предусматривающих ответственность за хищение государственного имущества.
Уголовное законодательство с 1917 года постепенно изменялось в сторону усиления охраны государственных интересов. Это просматривалось в тех видах наказаний, которые применялись на практике к виновным совершившим преступление против государства. Это также обнаруживалось в государственной политике, которая допускала снижение возраста уголовной ответственности в отношении лиц, допустивших хищение.
Максимальное снижение возраста уголовной ответственности государство допустило в отношении лиц, достигших 12-ти летнего возраста. Но такой подход вряд ли можно обосновать целью предупреждения преступности. Позиция государства была связана с необходимостью обеспечения представления о недопустимости хищения у государства. Такой профилактический шаг был вызван особым состоянием страны, голодом и сложным финансовым состоянием государства.
Уголовное законодательство периода в 1945-1960 годов не характеризовалось существенными изменениями в политике, касающейся хищений. Государство постепенно переходило на тотальный контроль хищений государственной собственности и установление максимальных наказаний за данные деяния.
В Советском Союзе резко снижалась роль криминологических исследований, рассмотрение целесообразности назначения наказаний сокращалось, приводились мнения о бесперспективности криминологии как науки. Противодействие преступности носило характер классовой борьбы, в которой победителем был пролетариат.
Государственные приоритеты находились около охраны государственной собственности. Построение законов было ориентировано на первостепенную охрану именно принадлежащего государству имущества. Уголовное законодательство 1960 года (как и более ранних), выделяло в отдельные нормы составы хищений государственной собственности. Приведем несколько исторических справок о состоянии законодательства 20 века, характеризующих отличия в правовом регулировании охраны разных форм собственности.
Так законодательство 1926 года устанавливало ответственность по статье 129 за расхищение государственного или общественного имущества. Такое расхищение, в частности, могло совершаться заключением невыгодных сделок лицом, которое руководило государственным или общественным учреждением.
Статьями 89, 90 и 144 УК РСФСР 1960 года устанавливалась разная охрана в различных главах и разделах закона интересов собственника имущества. Судебная практика периода 1960-1996 гг. демонстрировала совершенно отличные виды реагирования, обусловленные дифференцированным подходом законодателя к охране государственной и иных видов собственности.
Статья 90 УК РСФСР предусматривала ответственность за хищение государственного или общественного имущества, совершенного путем грабежа. Часть первая данной статьи устанавливала ответственность за ненасильственное открытое хищение государственного или общественного имущества и предусматривала наказание от 4 лет лишения свободы.
Что интересно, наказание устанавливалось в виде только нижнего предела санкции, соответственно, назначить наказание ниже установленной границы суд мог только в исключительных случаях. Самый опасный, особо квалифицированный вид грабежа в отношении государственного или общественного имущества, предусматривал наказание от 6 до 15 лет лишения свободы за грабеж, совершенный особо опасным рецидивистом или в крупных размерах [1].
Как указано в комментарии к Уголовному кодексу 1960 года, открытый характер при грабеже настолько повышал общественную опасность содеянного и преступника, совершившего деяние, что законодатель даже при мелком размере похищенного не считал возможным отнести грабёж к мелкому хищению социалистического имущества. Независимо от размера похищенного, действия виновного квалифицировались по статье 90 и в случае, если грабеж был соединен с насилием, квалифицировались по части 2 указанной статьи.
Законодатель в уголовных законах 1926 и 1960 годов существенно повышал опасность грабежа перед другими формами хищений. Отношения я грабежу всегда определялись не в зависимости от стоимости похищенного имущества, а в зависимости от выбранного способа хищения.
_________________________________5 _____________________________ "Экономика и социум" №12(91) 2021
Законодатель не усматривал возможности квалифицировать грабеж в качестве мелкого хищения, административное законодательство на данный способ хищения не распространялось. Опаснее грабежа всегда был разбой, двуобъектность этого состава изначально предопределяла характер посягательства не только в отношении интересов собственности, но и в отношении охраны жизни и здоровья человека.
При решении вопроса о характере похищения социалистического имущества необходимо было установить не только факт присутствия на месте совершения преступления лиц, не являющихся участниками преступления, но и то обстоятельство, что присутствующие при грабеже лица понимали характер совершённых преступником действий, даже если не могли воспрепятствовать похищению.
Одновременно для признания, содеянного грабежом, было необходимо, чтобы преступник осознавал открытый характер похищения, знал, что его действия наблюдаются третьими лицами, понимающими характер происходящего физического насилия.
Такая трактовка открытости хищения при грабеже была в предыдущих кодексах и сохранилась в настоящее время. Объективные и субъективные признаки открытости изначально были такими, какими последовательно переместились в действующее уголовное право.
Единственным исключением из правила определения открытого способа хищения является присутствие третьих лиц, которые являются близкими виновному людьми. Осознание ими характера противоправного поведения виновного, если виновный уверен в том, что они не будут препятствовать грабежу и не привлекут внимание окружающих, не образует признака открытости хищения. Правила квалификации являлись едиными для всех хищений, независимо от формы собственности, на которую покушался виновный [4].
При грабеже, как ранее, так и в настоящий момент не должно было быть применено опасного для жизни или здоровья насилие. И это насилие не должно было повлечь за собой причинение реального вреда здоровью потерпевшего. Конкретизируя, это насилие могло выражаться в причинении легких телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительную утрату трудоспособности.
Законодатель периода времени до 1996 года использовал термин «телесные повреждения», в дальнейшем этот термин вышел из оборота. В уголовном законе понятие «телесные повреждения» заменено на понятие «причинение вреда здоровью». Такая замена произошла поскольку «телесные повреждения» не в полной мере соответствуют терминологии анатомии и физиологии. При причинении вреда здоровью не всегда имело место нарушение телесной целостности. Состояние телесной целостности означало состояние целостности кожных покровов.
В ряде случаев, связанных с применением специальных способов нанесения ударов, либо ушибов головы, вред для здоровья потерпевшего имел место, а телесные повреждения (в прямом смысле словосочетания) не наступали. Такое привидение закона в соответствие с терминологией из области физиологии и медицины повысило научность законодательных текстов и улучшило его качество.
Такое насилие выражалось в нанесении ударов, побоев, связывание человека, вталкивании его в какие-то помещения, запирании там, ограничении любым образом свободы. Эти действия могли иметь место для квалификации по ст. 90 УК РСФСР при условии отсутствия опасности для его жизни или здоровья, то есть запирания, связывание, закрытие рта не должно было перекрывать дыхание, крупные кровеносные сосуды, повлечь за собой опасность причинения вреда, в том числе от асфиксии.
Любая форма воздействия на потерпевшего, которая связана с созданием угрозы для его жизни или здоровья, расценивается как более опасное деяние - разбой. В том случае, если имели место виновные действия в целях преступного завладения чужим имуществом с сопутствующей угрозой или реализованным насилием против жизни или здоровья потерпевшего, они охватывались ст. 146 УК РСФСР. Статья о разбое устанавливала квалифицирующий признак - совершение разбоя лицом, ранее совершившим разбой с целью завладения государственным или общественным имуществом или личным имуществом граждан либо бандитизм.
Этот квалифицирующий признак разбоя был единичным признаком учета рецидивной преступности. Рецидивная преступность в уголовном законе 1960 года да оценивалась не в отношении деяния, а в отношении лица. Лица признавались рецидивистами, что влекло последствие в виде избрания размера и срока наказания не ниже определенного порога и выбор места отбывания наказания (исправительно-трудовой колонии).
В дальнейшем был осуществлён пересмотр мнения о рецидиве, как характеристике личности или как характеристике преступного поведения. Настоящий уголовный закон предусматривает только виды рецидива, как оценку ранее совершённых умышленных преступлений при повторности совершения. В соответствии с положениями ст. 18 УК РФ, рецидив влияет на вид и размер избираемого судом наказания.
Разновидностью физического насилия при разбое является приведение потерпевшего в бессознательное состояние через введение помимо его воли или помимо его сознания в организме сильнодействующих, ядовитых или одурманивающих веществ, употребление которых опасно для жизни или здоровья [2].
В период действия УК РСФСР 1960 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в определении от 20 марта 1969 года по делу В. и других признала состав разбоя в действиях виновных. Виновные в целях завладения имуществом потерпевших знакомились с ними, входили в доверие, угощали вином (любым спиртным напитком), в которое подмешивали сильнодействующие или опасные для жизни и здоровья вещества. Когда потерпевшие теряли сознание, виновные забирали их имущество.
Такое тайное насилие при разбое и в настоящее время характеризуется сопряженным с опасностью для жизни или здоровья потерпевшего. Воздействие сильнодействующих веществ не прогнозируемо на организм потерпевшего, поэтому вероятность причинения вреда здоровью рассматривается как угроза.
По-другому должны рассматриваться случаи, когда в результате угощения спиртными напитками или другими веществами, характер действия которых потенциально известен потерпевшему, последние оказывались в бессознательном состоянии, а преступник, воспользовавшись этим, завладевал имуществом.
В уголовном законе 1960 года устанавливалась ответственность, например, за присвоение вверенного имущества (ст. 147.1 УК РСФСР), в части первой неквалифицированное присвоение предусматривало наказание до двух лет лишения свободы или в виде исправительных работ, или штрафа. Часть вторая, в которой присвоение государственного имущества происходило путем злоупотребления служебным положением должностного лица, устанавливала наказание до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Других видов наказания часть вторая не содержала.
Можно резюмировать: законодательство о преступлениях против собственности было подвержено изменениям в разные периоды развития СССР и Российской Федерации. Законодательство 1922, 1926 и 1960 годов дифференцировано в зависимости от видов, форм хищений и вида собственности похищаемого имущества. Хищение имущества государственной и общественной собственности предусматривало более строгое наказание, чем хищение иных форм собственности.
Современный закон, в силу конституционных установок, правовую охрану объединил в нормы, исходя из принципа равенства всех форм и видов собственности.
Состав грабежа изначально не был свойственен российским законам. Отсутствие в законодательстве XI-XIII веков упоминаний о грабеже объясняется его правовой природой. Грабеж «пришел» в российское законодательство из римско-византийского права.
В новейшей истории содержание рассматриваемого состава преступления претерпевало незначительные изменения, касающиеся квалифицирующих признаков. Отделение грабежа от кражи и от разбоя (как наиболее смежных составов преступлений) происходило и происходит сейчас по характеристике способа совершения преступления. Наполняемость признака открытости всегда была обеспечена объективным и субъективным критериями, содержание которых будет рассмотрено в следующих главах работы.
Таким образом, преступления против собственности всегда составляли основную часть преступности. Ситуация с качественной и количественной характеристикой хищений не меняется. Никакие библейские истины и заповеди религии не останавливают преступников от совершения преступлений против собственности. Любые морально-нравственные установки уходят на второй план, когда у человека появляется возможность улучшить свое материальное положение, разово или на длительный период удовлетворить свои имущественные потребности за счет других лиц.
Список литературы Исторический анализ норм об ответственности за грабеж в российском законодательстве
- Архипов А.В. Единое продолжаемое хищение: проблемы квалификации // Уголовное право. 2017. № 5. С. 44-49.
- Безверхов А. Г. Грабеж и разбой в древнем и средневековом праве // Уголовное право. 2021. №2. С. 6-8.
- Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник. Под общей редакцией д.ю.н., профессора В.И. Гладких. - М.: Новосибирский государственный университет, 2017. - 614 с.
- Лопашепко H.A. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследование. М.: "ЛексЭст", 2021. - 408 с.