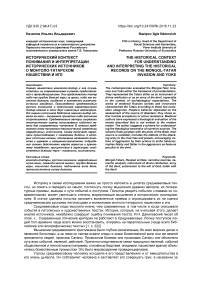Исторический контекст понимания и интерпретации исторических источников о монголо-татарском нашествии и иге
Автор: Назипов Ильгиз Ильдарович
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2018 года.
Бесплатный доступ
Оценка нашествия моноголо-татар и ига осуществялась их современниками в рамках представлений о провиденциализме. Они представляли татар либо как орудие Божьей кары за грехи, либо как воинство дьявола, особенно в контексте эсхатологических ожиданий. Произведения средневековых русских книжников и летописцев характеризуют татар именно в этих двух оценочных категориях. От оценки источника бедствий зависел выбор ответа на него - смиренное принятие либо активное сопротивление. Средневековые авторы выражали теологическую оценку описываемых событий неявно для современного читателя. В статье предложена схема понимания теологической семантики нарративных источников. Схема включает параллели происходящего с сюжетами Библии, в которых источник назван; отношение напавшего воинства к церквям и священнослужителям; побуждение своими действиями жертв агрессии к греховному поведению; присутствие в агрессорах свойственных дьяволу черт - лживости, льстивости.
Монголо-татары, русские книжники, нарративные источники, семантический анализ, орудие божьей кары, воинство дьявола, подчинение воле бога, противостояние силам дьявола
Короткий адрес: https://sciup.org/149133696
IDR: 149133696 | УДК: 930.2:94(47).03 | DOI: 10.24158/fik.2018.11.23
Текст научной статьи Исторический контекст понимания и интерпретации исторических источников о монголо-татарском нашествии и иге
Историку в своем исследовании важно не просто изложить в цитатах средневековые тексты, но понять и передать их смысл, постигнуть логику мышления древних авторов, их литературные приемы, выводы о сути событий и поступков. Попытка увидеть события «глазами их современников» может уменьшить степень модернизации мышления в исторических исследованиях. В статье сделана попытка изложить выявленные приемы и спроецировать их на оценки средневековыми русскими летописцами и книжниками монголо-татарского нашествия и ига.
Средневековые люди мыслили иначе, чем современные, в том числе и когда описывали события в летописных и художественных текстах. Историк, который, не учитывая этого, делает анализ источников, неизбежно совершит ошибку понимания текста. И.Н. Данилевский писал об этом: «…Современные этические критерии не работают в Средневековье. Логику поступков людей того времени чаще всего можно восстановить, опираясь на параллельные (чаще всего библейские или апокрифические) тексты» [1, с. 222].
Мышление средневекового христианина было глубоко религиозным. Во всех мирских делах и явлениях богословы, а за ними их паства искали следы и знаки Божественной воли или же земной греховности людей, происков Сатаны. Промыслом Божиим или происками Сатаны они объясняли суть всех событий, явлений, действий. Причинно-следственные связи природных явлений, событий общественной и личной жизни (например, стихийные бедствия, эпидемии, нашествия врагов) объяснялись божественным промыслом. Это было мировоззрение провиденциализма.
Угрозы средневековому человеку исходили в его представлениях и от вмешательства в его жизнь дьявола. Он соблазняет человека и заставляет его совершать грех, в наказание за который последуют кары Господни. Дьявол непосредственно вредит человеку, его имуществу, близким людям.
Наказания или испытания, посланные Богом, следовало принимать как данность, безропотно, даже с благодарностью. Так выдержал испытание Иов, который остался преданным Богу, несмотря на то, что всего лишился – богатства, семерых детей, здоровья. В рамках христианства смирение, подчинение воле Бога не есть поведение, недостойное мужа, его не стыдятся. Напротив, за такое ярко выраженное поведение становятся святыми (например, как первые русские святые – Борис и Глеб, принявшие смерть, не пожелав участвовать в братоубийственной войне).
С кознями дьявола надо было активно бороться. Во-первых, молитвой, во-вторых, действием. Например, следовало найти служащую ему ведьму и сжечь ее. Поэтому человеку Средневековья важно было различать воздействие Бога и Сатаны. От кого исходят трудности человека, беды, болезни? И, соответственно, выбрать ответный стереотип поведения.
В отношении монголо-татар все это также было актуально. Следовало воспринимать их как орудие Божьей кары за грехи либо видеть в них орудие дьявола и бороться с ними. В первом случае нужно было исправиться в тех грехах, за которые последовала кара, а также безропотно принять судьбу, смириться с ней, молиться во спасение – т. е. подчиниться татарам. Во втором случае надо было бороться с татарами, не подчиняться им и погибнуть «мученической смертью», заслужив себе «вечную жизнь».
И еще важно: если кара была очень сильной, как нашествие монголо-татар, опустошившее всю страну, то имели большое значение аналогии с началом последних времен, потому что в представлениях шокированных религиозных современников это неизбежно вызывало ожидание второго пришествия и конца света. Но и в этом случае стереотип поведения был тот же – надо смириться и молиться о прощении грехов.
Встает вопрос правильной идентификации источника воздействия на событие и его причин, а значит, и выбора ответа на воздействие – смиренное принятие того, что исходит от Бога, или борьба с тем, что исходит от лукавого.
В исторической науке семантика образа монголо-татар в древнерусских источниках уже подвергалась исследованиям. Сравнительную характеристику этой семантики в разных летописях и отдельных произведениях средневековых русских книжников, реконструкцию представлений о монголо-татарах делали И.Н. Данилевский [2, с. 133–213] и В.Н. Рудаков [3]. Старался моделировать средневековую русскую оценку нашествия и ига американский историк Ч. Гальперин. Он пишет, что иго трактовалось русскими исключительно в христианских представлениях о «Гневе Божием» и борьба за независимость переносится в область провиденциализма [4].
В данной статье автор систематизирует особенности восприятия ордынцев их современниками и отслеживает, как это отражалось в исторических источниках.
Волю Бога знатоки священных текстов распознавали по аналогии с его волей, изложенной в этих текстах, находя параллели с происходившими событиями. В текстах летописей и произведений книжников такой подход нашел свое выражение.
Например, русская летопись XIII в. рассказывает о «казнях Божиих», о том, какими они бывают и за что посланы, как надо их принять христианину: «се же наводи на иы Бъ велѧ на имѣти покаѩнье и встѧгнутисѧ ѽ грѣ ѽ блуда и зависти и грабленьѩ и насильѩ и ѽ прочи злы дѣлъ неприѧзнинъ Бъ бо казни рабы своѩ напастми разноличными ѡгне водою ратью смртью напрасною так обо и подо-бае хрьѩно многыми напастми и скорьми внити в цртво нбное аще с блгодаренье приму напасти но не предажь на до конца имени твоѩго ради Ги аще бо на безаконьѩ наша призриши Ги то кто посто-ить ты бо свѣси Влко наши согрѣшеѩ подвиженье на зло но ѡбаче надѣесѧ на млть твою Ги молитвами Бца помилуи на ты бо ѥси Бъ на развѣе тебе иного не знае» [5, стб. 449–450]. (За грех, блуд, зависть, грабежи, насилия и прочее зло Бог карает рабов своих огнем, водою, ратью, смертью. С благодарностью подобает принимать это и надеяться на милость Божию.)
Или, например, ярко характеризует сказанное такой текст: «Не точію вашего ради со-грѣшеніа и неисправленіа къ Богу, паче же отчаяніа еже не уповати на Бога, попусти Богъ рать на преже тебе прародителей твоихъ, – и всю землю нашу поработи и воцарися надъ ними… и тогда убо прогнѣвахомъ Бога, и Богъ на ны прогнѣвася и наказа насъ, якоже чадолюбивый отецъ, по глаголющему Апостолу: егоже любитъ Господь, наказуетъ; бьетъ же всякого сына отецъ, егоже пріемлетъ» [6, с. 208–209]. (За грехи, за неупование на Бога в отчаянии Бог посылал рать на нашу землю, потому что он нас любит и наказывает любя, как делает это отец с сыном.)
Или приведем текст Серапиона Владимирского, в котором перечисляются примеры применения самых различных видов «казней Божиих», как из богословской литературы, так и из видимых им в жизни, причем и глобального масштаба, и масштаба средневекового города с несколькими сотнями пострадавших, а также рассказывается с осуждением об имеющем место поведе- нии масс при бедствиях - выкапывании из могил недостойных христианского погребения самоубийц: «О, маловЬрнии, слышасте казни от бога: в первыхъ родЬхъ потопа на гиганты, огнемъ пожьжени, а содомляне огнем же сожени, а при фараонѣ десять казней на Егупетъ, при ханании камене огненное с небесѣ пусти, при судьяхъ рати наведе, при Давидѣ моръ на люди, при Титѣ плѣнъ на Ерусалимъ, потомъ трясенье земли и паденьемъ града. И в наша лѣта чего не видЬхомъ зла? многи бЬды и скорби, голодъ, от поганых насилье. Но никако же премЬнимься от злыхъ обычай наших; нынѣ же гнѣвь божии видящи и заповѣдаете: хто буде удавленника или утопленника погреблъ, не погубите люди сихъ, выгребите. О, безумье злое! О, маловѣрье! Полни зла исполнении, о томъ не каемъся. Потопъ бысть при Нои не про удавленаго, ни про утопленника, но за людския неправды, и иныя казни бещисленыя. Драчь град 4 лѣта стоялъ от моря потопленъ бысть и нынЬ в мори есть. В лясЬхъ от умноженья дождя 600 людий потопло, а инни в Перемышли градѣ 200 потопоша, и глад бысть 4 лѣта. Тамо же се все бысть в сия лѣта за грѣхи наша. О, человѣци, се ли ваше покаянье? сим ли бога умолите, что утопла или удавленника выгрести? Сим ли божию казнь хощете утишити? Лучши, братья, престанемъ от зла; лишимъся всѣхъ дѣлъ злых: разбоя, грабленья, пьянства, прелюбодѣйства, скупости, лихвы, обиды, татбы, лжива послушьства, гнѣва, ярости, злопоминанья, лжи, клеветы, рѣзомиманья. Аз бо грѣшный всегда учю вы, чада, велю вамъ каятися. Вы же не престанете от злыхъ дЬлъ» [7, с. 452-453]. (Серапион вспоминает потоп, сожжение огнем, десять казней египетских, землятресения, голод, насилье от «поганых». Причина всему - грехи людей. Нужно прекратить делать зло - разбойничать, заниматься пьянством, быть лживыми, яростными, скупыми.)
Можно привести и такой пример перечня «казней Божиих» из одноименного рассказа в летописи, где перечислены виды казней, сказано о том, что они даны за грехи, и рассказано, как заслужить прощения Бога и прекращения казней: «Земли согрѣшивши коеи любо, казнить богъ смертью, или гладомъ, или наведениемъ поганых, или ведромъ, или гусиницею, или инѣми казньми. Аще ли покаявшееся будем, в нем же ны богъ велит житии, глаголеть бо намъ проро-комъ: “обратитеся ко мнѣ свѣмъ сердуемъ вашимъ, постом и молитвою и плачемъ”; да еще сице створимъ, всЬх грЬхь прощении будемъ» [8, с. 186]. (Земли согрешившие Бог казнит смертью, голодом, нашествием неверных, потопом. Надо каяться, молиться, поститься.)
Как распознать зло, исходящее от дьявола?
Во-первых, разглядев признаки Сатаны и его сил по аналогии с описанием их в Библии и близких к ней религиозных и предсказательно-религиозных текстах. Деяние, в основе которого лежат пороки, свойственные в священных текстах дьяволу или его слугам, исходит от дьявола. Например, лукавство, ложь, клевета (с ивр. |uiy, сатан - ‘противник, клеветник’; от древнегреч. бювоЛо^ - ‘лукавый, клеветник’); или гордыня (за что пожелавший стать равным Богу архангел Люцифер был низвергнут); или когда в основе событий и действий лежат другие пороки, свойственные дьяволу или его слугам, в священных текстах - льстивость, зависть.
Во-вторых, когда возникают ситуации, толкающие человека на нарушение заповедей Священного Писания, то они от дьявола. Дьявол всегда желает человеку только зла, его цель - погибель человека. По свидетельству Священного Писания, начало греха идет от дьявола: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил» (1 Ин. 3:8).
В-третьих, безусловным проявлением в миру сил дьявола является разрушение церквей, убиение церковнослужителей, уничтожение священных реликвий.
В-четвертых, распознать исходящее от дьявола можно и просто поняв, что человек, общество не грешили, вели себя правильно, соблюдали все заповеди и кары Божией не заслуживали (хотя тут возможна и проверка верности Богу в страданиях, примут ли их безропотно), но последовали проблемы, несущие беды, страдания. Вероятно, это действует дьявол, насылая беды на тех, кто преданно служит Богу. Что значит вести себя правильно, кроме соблюдения заповедей? Делать и думать так, как должен верующий, и находить образцы в святых текстах (впрочем, в христианстве думать о запретном - это тоже нарушение заповеди (Мф. 5:28)); не делать и не думать так, как грешно, образцы также содержатся в святых текстах.
Проиллюстрируем оба правила содержанием из двух цитат не священных текстов, но передающих основное содержание общественной морали. Древний текст «Похвала роду рязанских князей» содержит такой перечень примеров правильного поведения: «христолюбивым, братолю-бивыи… к приеждим привѣтливы, к церквам прилѣжны, на пированье тщывы… чистоту душевную и телесную без порока соблюдатса. <…> От самых пеленъ Бога возлюбили. О церквах божиих велми печашеся, пустошных бесѣд не творящее, срамных человекъ отвращашеся, а со благыми всегда бѣсѣдоваша, божественных писаниях всегода во умилении послушаше. <…> А по браце целомудренно живяста, смотряющи своего спасенна. <…> Плоти угодие не творящее, соблюдающи тѣло свое по браце греху непричасна. <…> молитве прилежаста; и кресты на рамѣ своем носяща. И честь и славу от всего мира приимаста, а святыа дни святого поста честно храняста, а по вся святыа посты причащастася святых пречистых бессмертных таин. <…> А отчину свою от супостат велми без лѣно-сти храняща. А милостину неоскудно даяше» [9, с. 201–204]. (Следует любить Христа, братьев, соблюдать душевную и телесную чистоту, прилежно молиться, соблюдать пост.)
Краткий перечень грехов – это все заповеди Христа, Моисея и их толкование. Но в текстах средневековых авторов можно увидеть и перечни «сатанинских» деяний (неисчерпывающий перечень, тем более если он заканчивается словами «и прочих сатанинских деяний»). Например: «Аще отступимъ скверныхъ и немилостивыхъ судовъ, аще примѣнимься квиваго рѣзоимьства и всякого грабленья, татбы, разбоя и нечистаго прелюбодѣиства, отлучаюша от бога, сквернословья, ожѣ, клеветы и поклепа, иныхъ дѣл сотониных» [10, с. 442]. (Следует воздерживаться от неправедного суда, воровства, разбоя, клеветы, прелюбодейства, сквернословия – это все от Сатаны.)
В-пятых, для уяснения теологического толкования древним книжником татар следует изучить его отношение к сопротивлению татарам. Это отслеживается и в вышеприведенных цитатах.
Совокупность перечисленных признаков распознавания в воздействии монголо-татар на Русь видимых древними людьми Божьего промысла или происков Сатаны позволит ученому-историку понять отношение к происходящему средневекового автора, а часто и князя, в чьих землях этот автор жил и писал.
Применяя предложенную схему понимания древних источников, можно по этому основанию разделить большинство их, описывающих нашествие монголо-татар и их последующее господство над Русью, на две группы. Татары для авторов одного текста – слуги дьявола, другого – орудие кары Господней. При этом следует проявлять осторожность в оценках, так как в текстах могут одновременно присутствовать характеристики разной семантики. В этом случае следует сопоставить характеристики и выявить преобладающую семантику.
Ссылки:
-
1. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.). М., 2001. 289 с.
-
2. Там же. С. 133–213.
-
3. Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII–XV вв. М., 2009. 246 с.
-
4. Halperin Ch.J. The Russian “Theory” of Mongol Rule // Halperin Ch.J. Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. Ch. VI. Bloomington, IN, 1987. P. 61–74.
-
5. Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. I. Л., 1927. 488 стб.
-
6. Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. X. М., 2000. 248 с.
-
7. Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. 616 с.
-
8. Новгородская I летопись // Полное собрание русских летописей. Т. III. М., 2000. 693 с.
-
9. Памятники литературы Древней Руси: XIII век. С. 201–204.
-
10. Там же. С. 442.
Список литературы Исторический контекст понимания и интерпретации исторических источников о монголо-татарском нашествии и иге
- Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.). М., 2001. 289 с.
- Рудаков В.Н. Монголо-татары глазами древнерусских книжников середины XIII-XV вв. М., 2009. 246 с.
- Halperin Ch.J. The Russian "Theory" of Mongol Rule // Halperin Ch.J. Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. Ch. VI. Bloomington, IN, 1987. P. 61-74.
- Лаврентьевская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. I. Л., 1927. 488 стб.
- Никоновская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. X. М., 2000. 248 с.
- Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981. 616 с.
- Новгородская I летопись // Полное собрание русских летописей. Т. III. М., 2000. 693 с.