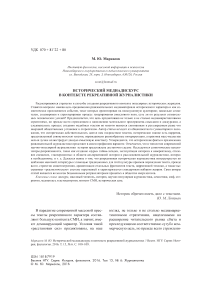Исторический медиадискурс в контексте рекреативной журналистики
Автор: Маркасов Максим Юрьевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Дискурс СМИ
Статья в выпуске: 6 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются стратегии и способы создания рекреативного контента популярных исторических журналов. Ставятся вопросы: какова цель продвижения развлекательного медиаматериала исторического характера и как семиотически преломляются события, текст которых ориентирован на неискушенную аудиторию; насколько сознателен, спланирован и структурирован процесс генерирования смыслового поля, есть ли он результат сознательных человеческих усилий? Предполагается, что цель продиктована не только и не столько медиамаркетинговыми стратегиями, но прежде всего стремлением к наполнению ментального пространства смыслами и дискурсами, а следовательно, процесс создания медийных текстов во многом является спонтанным и регулируемым разве что инерцией общественных установок и стереотипов. Автор статьи исходит из общеизвестного гуманитарного положения, что историческая действительность дается нам посредством текстов, историческое знание есть нарратив, представленный совокупностью текстов, порождающих разнообразные интерпретации, а практика масс-медиа как нельзя лучше иллюстрирует данную смысловую константу. Утверждается, что исторические факты в преломлении развлекательной журналистики предстают в своем профанном варианте. Отмечается, что в типологии современной научно-популярной журналистики история представлена достаточно скудно. Исследуются семиотические катализаторы рекреативности, такие как создание «ауры» тайны-загадки, эксплуатация интереса к невероятному, стилевое смешение, «эксперименты» в области альтернативной истории и расследовательской журналистики, интерес к необыденному, и т. д. Делается вывод о том, что рекреативная историческая журналистика конструируется по шаблонам массовой литературы с помощью традиционных для этой культуры приемов порождения текста, прежде всего, стратегии сюжетостроения, драматизации отдельных фрагментов текста, нарративной техники, а также выстраивает «реалистическую» систему персонажей и характеризуется стандартным набором жанров. Сами авторы статей являются во многом безымянными ретрансляторами принятых в обществе сверхлогосов.
Дискурс, массовый читатель, история, научно-популярная журналистика, семиотика, миф, стереотип, медиатекст, текстоцентризм, контент сми, историческая дата
Короткий адрес: https://sciup.org/147219604
IDR: 147219604 | УДК: 070
Текст научной статьи Исторический медиадискурс в контексте рекреативной журналистики
Историк обречен иметь дело с текстами. Ю. М. Лотман
В парадигме современной массовой прессы тексты рекреативного характера составляют большую контента СМИ, а значит, имеют доминирующий характер. Условия такой «расстановки сил» продиктованы, на наш взгляд, не только и не столько медиамарке-тинговыми стратегиями, нацеленными на расширение читательского рынка сбыта и преследующими соответственно сугубо коммерческую цель, но прежде всего стремлени-
Маркасов М. Ю. Исторический медиадискурс в контексте рекреативной журналистики // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 6. С. 100–109.
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 6: Журналистика
ем к наполнению ментального пространства смыслами и дискурсами. Впрочем, вполне экономически обусловленный горизонтальный маркетинг (предоставление все более полного набора услуг) и направлен на создание идеологии потребления как таковой, а массовая культура становится механизмом порождения и стимуляции этих дискурсов. Вопрос заключается в другом: насколько сознателен, спланирован и структурирован процесс генерирования смыслового поля и кто «всем управляет»? Иными словами, есть ли он результат сознательных человеческих усилий? Нам видится, что во многом этот процесс является спонтанным и регулируемым разве что инерцией общественных установок и стереотипов.
Историческая (и не только) действительность, как известно, дается нам посредством текстов. Сформулированное в многочисленных работах теоретиков постструктуральной школы (Ж. Деррида, М. Фуко, Ж. Делеза, Ж.-Ф. Лиотара, Р. Рорти и др.) и в работах отечественных семиотиков, это положение стало доминантой современного гуманитарного мышления. Согласно Ю. М. Лотману, «историк обречен иметь дело с текстами. Между событием “как оно произошло” и историком стоит текст <…>. Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан, событие предстает в нем в зашифрованном виде. Историку предстоит, прежде всего, выступить в роли дешифровщика <…>. Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии – событие» [Лотман, 1996а. С. 301–302]. Текст истории – точка пересечения различных дискурсов, огромного количества возможностей «объяснения исторических событий, и, соответственно, одни и те же события могут получать различную интерпретацию – в частности, государственно-политическую, социально-экономическую, культурно-семиотическую и др.» [Успенский, 1996. С. 10]. Следовательно, очевидным становится тот факт, что «разнообразие интерпретационных возможностей отражает», по мысли Б. А. Успенского, «реальную сложность исторического процесса: иными словами, разнообразные объяснения не отрицают, а дополняют друг друга» [Там же. С. 11]. Более того, « <…> в сердцевине семиотики лежит осознание того, что весь человеческий опыт без исключения является интерпретативной структурой, передаваемой и поддерживаемой знаками» [Дили, 2014. С. 23].
Данное утверждение вступает в прямое противоречие с государственной идеей создания единого учебника истории, возникшей пару лет назад. Впрочем, школьная схоластика, особенно в области гуманитарных дисциплин, всегда была чем-то обособленным от фундаментальной науки и представляла собой адаптированный для учащихся и идеологически ориентированный на эту «целевую аудиторию» вариант. Кроме того, существует и проблема понимания истории разными, и в какой-то степени противоположными, субъектами научного дискурса – историками и филологами. А. М. Эткинд пишет: «В нынешнем своем виде граница между историей и филологией охраняется с одной стороны. Филологи любят ее пересекать, а историки не любят. С точки зрения филолога, между текстом и событием нет принципиальной разницы: во-первых, текст сам является событием; во-вторых, текст вызывает к жизни новые события; в-третьих, о событиях мы знаем только через тексты; и в-четвертых – это уже идея нового историзма, – сами события разворачиваются подобно текстам, имея свою лексику, грамматику и поэтику. Историки со всем этим, скорее всего, не согласятся. Историки не терпят пришельцев и расправляются с ними обычным способом: объявляют их несуществующими» [Эткинд, 2001]. В свою очередь реакция филолога на исторический дискурс не менее радикальна и агрессивна, потому что идея «подобия исторического дискурса художественному – лейтмотив постмодернистского неверия в разрешающую силу историографии» [Смирнов, 2001].
Мы будем придерживаться текстоцентрического подхода, учитывая, что речь в данном случае идет о специфическом способе фиксации – газетно-журнальном. Историческое знание есть нарратив, представленный совокупностью текстов, порождающих разнообразные интерпретации, а практика масс-медиа как нельзя лучше иллюстрирует данную смысловую константу. Соответственно, контент СМИ есть «письмена истории», факты, зафиксированные вербально и визуально. «Научпоп» 1 соответственно явлен нам в качестве профанного варианта как науки, так и искусства. Таким образом, мы можем рассматривать историю в двух ипостасях: в серьезном, элитарном, значении и в профанном. Впрочем, в вопросе об истории, которая дается нам в качестве текста, нас должно интересовать другое. Во-первых, какова цель продвижения развлекательного медиаматериала исторического характера? Во-вторых, как семиотически преломляются события, текст которых ориентирован на массовую аудиторию?
Ответ на первый вопрос, казалось бы, лежит на поверхности: распространение популярных научных знаний служит образовательным целям, повышению «культурного уровня» читателя-зрителя. Так, Е. В. Барканова справедливо отмечает, что «актуальным сегодня становится вопрос об историческом медиаобразовании: пропаганда исторических знаний в качестве основы развития общества, противостояние иррациональным мифам массового сознания <…> и стереотипам. Роль журналиста, специализирующегося на освещении истории, не должна ограничиваться только информированием, оповещением, как это выглядит на практике. Он способствует саморегуляции общества как системы, реализуя просветительскую функцию журналистики <…>» [Барканова, 2015]. Автор другой статьи, Е. Г. Константинова, акцентирует внимание на том, какие конкретно шаги необходимо предпринять для восстановления системы научно-популярной журналистики, подобно той, которая существовала в СССР, или построения модели, идентичной западной [Константинова, 2009] 2. Безусловно, создание, точнее, усовершенствование сети СМИ такого типа – дело необходимое, однако наша задача – выявление смыслов, лежащих совсем в иной плоскости – семиотической. В контексте ска- занного выше возникает еще один вопрос: почему в СССР так популяризовали науку? Достаточно вспомнить общество «Знание», уже в советскую эпоху приобретшее в массовом восприятии мифологически-анекдотиче-ские коннотации. Ориентация на концепцию «образованного человека», научный материализм – именно эти идеологемы транслировались и внедрялись в сознание советского человека. Отметим, что в СССР превалировало и стимулировалось именно техническое знание, а гуманитарное образование (в средней школе это, прежде всего, литература и история) априори предполагает не накопление информации, а способность вырабатывать механизмы критического мышления, которое, если открыто насильственно и не подавляется политической властью («полицией мыслей»), то, безусловно, перемещается усилиями последней на периферию активной социальной жизни 3. Еще в доинтернетов-скую эпоху Маршалл Мак-Люэн, характеризуя «галактику Гутенберга», утверждал, что «организовывать и направлять всю рабочую силу общества – такая задача неразрешима без всеобщей грамотности» [Мак-Люэн, 2003. С. 217]. Любая манипуляция идеологична, а «плоть идеологии – тексты. Идея овладевает массами тогда, когда массы читают тексты. Если массы совсем неграмотные, то они слышат и видят некие суррогаты текстов [Эткинд, 2001].
Научно-популярная журналистика, а тем более развлекательная, если частично и выполняет образовательную функцию, фрагментарна и не нацелена на формирование систематических знаний, скорее она играет просветительскую роль. Впрочем, рекреативность текстов СМИ, если рассматривать ее в контексте оценочных суждений, сама по себе и вполне положительна, так как помогает человеку переживать эмоции, и вполне отрицательна, потому что формирует и поддерживает в массовом сознании механизмы власти мифов и стереотипов. В этом смысле рекреативная историческая журналистика конструируется по шаблонам массовой литературы, используя традиционные для этой культуры приемы порождения текста, прежде всего, стратегии сюжетостроения, драматизацию отдельных фрагментов текста, нарративную технику, а также выстраивает «реалистическую» систему персонажей и характеризуется стандартным набором жанров. Иначе говоря, медиаисторический дискурс, как и дискурс научно-исторический, строится во многом по законам художественного повествования. Мы сознательно не затрагиваем проблему качества таких «техник», потому что совершенно очевидно, что ставка на художественную оригинальность не только не входит в замысел как массовой литературы, так и журналистики, но более того, вредит ей.
Итак, вернемся ко второму и основному вопросу, поставленному нами выше: как семиотически преломляются события истории, текст которых ориентирован на массовую аудиторию?
Беглый взгляд на каталоги изданий, которые можно отнести к типу популяризаторских, дал нам основание утверждать, что много «научпопа» в географии, физике, медицине, технике. История представлена достаточно скудно, филология отсутствует вообще. Последняя, как думается, в силу того, что литература не воспринимается как область профессионального знания, это то, что, по расхожему мнению, доступно для понимания всеми. Надо отметить, что исторические материалы публикуют и в универсальных неспециализированных изданиях. Кроме того, история получила свое воплощение именно в виде книг, реинкарнировавшись в бывшей, теперь уже современной, серии «ЖЗЛ».
Согласно статистике Национальной тиражной службы, «ниша популярных исторических журналов заполнена достаточно слабо. Есть явное несоответствие между широко распространенным интересом к истории и сравнительно маленькими тиражами и аудиторией имеющихся на рынке популярных исторических журналов [Яковенко, 2012]. Национальная тиражная служба относит к историческим научно-популярным журналам 5 печатных СМИ: «Дилетант»; «Московский журнал. История государства российского», основанный Н. М. Карамзиным в 1791 г. и возобновленный в 1991 г.; «Родина»; «Военно-исторический журнал»; «История в подробностях». Последний включен в Российский индекс научного цитирования, а «Родина» и «Военно-исторический журнал» – в перечень ВАК. Таким образом, практически обо всех официально отнесенных к категории научно-популярных журналов мы не можем говорить как о рекреативных, тем более о трех из них, которые, по сути, являются сугубо научными (факт включенности в РИНЦ и ВАК).
Специализированные еженедельники (как самая рациональная в современных рыночных условиях форма печатных СМИ) «Тайны XX века», «Военная история», «Загадки истории» и другие подобные по типологии и оформлению представляют собой что-то среднее между научно-популярной журналистикой и глянцем. Причем все три еженедельника являются составляющими единой издательской структуры, а последние зарегистрированы как две разные газеты, но издающиеся одной редакцией и имеющие сходный дизайн (ее можно рассматривать как своеобразную медийную дилогию) 4.
Первое, что необходимо отметить: название рубрик четко привязано к специализации еженедельника и функционирует только в поле исторического тезауруса. «Невероятные артефакты», «Дворцовые тайны», «Военная тайна», «Байки из прошлого», «Исторические загадки», «Легенды прошлых лет», «Исторический сканворд», «Археологи сообщают», «Женщина в истории», «Назад в СССР» и т. д. – это постоянные рубрики газеты «Загадки истории». Еженедельник «Военная история», согласно заявленному названию и рекламе, акцентирует внимание на военной тематике: «Окопный юмор», «Уроки битв», «Знаменитые крепости», «Военные хитрости», «Великие полководцы», «Награды», «Ручное оружие», «Война и политика», «Холодное оружие», «Главное сражение», «Кровавые земли», «Военные музеи», «Женщина на войне», «Воины» и др. Выделим наиболее ценные, на наш взгляд, рубрикации и материалы, имеющие знаковый характер и служащие катализатором рекреативности.
Во-первых, часть материалов эксплуатирует тему тайны, загадки, что отражено в названии и что в массовом сознании идентично виртуальному выходу из обыденного, жажды невероятного. В связи с этим важно отметить, что задача автора – всегда поддерживать интригу, тексты подобных материалов, как правило, информативно малонасыщенны, повод для научного и журналистского расследования неправдоподобен, а тематический «репертуар» загадочного содержит достаточно ограниченный список тем и часто сопровождается подзаголовком, представляющим собой вопросительное предложение. В материале «Каменный глобус Атлантов. В джунглях Эквадора хранится карта забытых континентов?» (Загадки истории. 2015. № 36) повествуется о найденном в Латинской Америке камне, на котором археологи усмотрели древнюю карту расположения материков. Очевидно, что коммуникативный замысел автора и не предполагает выявления истинного смысла обнаруженного артефакта. Не случаен поэтому распространенный прием указания на анонимных исследователей: специалисты утверждают. Сами авторы статей, хотя их фамилии, как это и положено, указаны, также анонимны и являются во многом некими коллективными авторами, безымянными ретрансляторами принятых в обществе сверхлогосов. Назовем этот дискурс «дискурсом приоткрытия тайн». Причем адресат, считывая информацию, должен как можно более реально реконструировать в своем воображении «картинку» событий, происходивших, по предположению историков, 12 000 лет назад. И цифра здесь тоже не случайна, так как любая историческая и биографическая тематика обязательно предполагает наличие статистических и временных данных. В рассматриваемых нами изданиях она графически вынесена за пределы основного текста и буквально пронизывает весь журнал, выступая основным структурирующим его принципом, «цифра в данном случае призвана выполнять обсессивную функцию – расставлять факты в сознании реципиента в определенном порядке» [Марка-сов, 2013. С. 95]. Более того, каждая историческая дата в своем роде интертекстуальна, способна вызывать в зависимости от степени компетентности адресата разнообразные в количественном и качественном аспекте ассоциации, «если История видится как текст, то истории пишутся как все новые его чтения» [Эткинд, 2001]. Наиболее наглядно историческая дата как концепт представлена в рубрике «Кровавые земли», в которой повествуется об истории древних городов (Кабул, Александрия), примечателен здесь в семиотическом плане не сам текст, сколько крупным шрифтом графически оформленные даты, причем материал располагается по вертикали, удачно акцентируя тем самым внимание читателя на цифре. В ряде случаев цифра приобретает сугубо риторическую функцию (12 000 лет каменной карте Атлантиды) с целью вызвать реакцию удивления, стимулировать работу воображения читателя, создавая тем самым почти физическое ощущение времени. Также удачной работой по визуализации изданий можно считать обильно иллюстрированные рубрики, посвященные атрибутике войны – орденам и оружию, являющихся иконическим знаком и наиболее адекватно репрезентирующих и войну, и историю. Оригинальным способом консервации и материализации истории являются музеи, которым посвящена отдельная рубрика, таким образом, происходит двойное кодирование информации: сначала языком истории становятся предметы (танки, огнеметы, холодное оружие), затем осуществляется непосредственно вербализация темы в тексте статьи. В этом смысле рекреативная пресса сродни визуальным СМИ: не имея тех технических возможностей, которыми обладает ТВ, печать вынуждена использовать приемы, рассчитанные на воздействие словом. И надо сказать, делает это профессионально и вполне может если не конкурировать с телевизуальными СМИ, то, по крайней мере, еще довольно долго представлять некоторую «бумажную» альтернативу.
Во-вторых, для усиления рекреативной функции материал часто сопровождается «забавным» фактом (такого медиафакта для поддержания баланса интереса читателя достаточно одного), становящимся своеобразным метатекстом, текстом в тексте, имитацией художественного повествования. Так, в статье «Полководческий орден для лейтенантов» (Военная история. 2015. № 10) рассказывается о подполковнике Николае Невском, трижды ставшем кавалером ордена Александра Невского и прозванном «четырежды Невский»: ему бесспорно « ворожила » его фамилия, удачно совпадавшая с прозвищем князя (Там же. С. 15). В сознании реципиента так же, как и в случае с персонажем журналистского произведения, событие символизации свершается трижды – происходит троекратная фиксация «говорящего имени»: во-первых, канонизированный, а соответственно, мифологизированный советской пропагандой и кинематографией русский полководец предстает неким патриотическим шаблоном, позднее подкрепленным учреждением ордена; во-вторых, подполковник Невский встраивается в этот героический модус, становясь двойником князя, наконец, оба обретают воплощение в тексте автора статьи. Наиболее ценно в знаковом отношении здесь второе: насколько предсказуемым и запланированным было награждение именно этого человека в контексте советской военно-имперской риторики? Почему героя войны не популяризовали, как, скажем, сделали это с Александром Матросовым или Николаем Гастелло? Ведь для Советской власти сложившиеся таким образом обстоятельства, надо полагать, были подарком судьбы, «семиотической находкой», и встроить в «красный» пантеон очередное имя не составило бы труда.
В-третьих, в журналах публикуют тексты, по жанровым характеристикам напоминающие журналистское расследование: «Кто убил генерала Сикорского? Главу польского правительства в изгнании устранили по приказу Черчилля?», «Два лица Рихарда Зорге. Легендарный советский разведчик работал на американцев!». Вопросительный и восклицательный знаки здесь выполняют сугубо прагматическую функцию: в первом случае «истина» не раскрывается, а становится объектом «исследования», во втором автор со- общает нам тщательно скрываемую долгие годы «правду». Кстати, эта мысль о текстовой природе истории и сконструированности многих героев прошлого усилиями государственного пиара проходит красной нитью в статье: Узнав, что в основе фильма лежат реальные события, Хрущев велел популяризовать имя Зорге. А вот фильм Ива Чампи с экрана убрали. Критикам не понравилось, что разведчик получает секретные сведения не с помощью марксистско-ленинской идеологии, а «через соблазненных им женщин». Без комментариев остался и финал ленты, где перед арестом Зорге успевает передать последнее сообщение о скором нападении японцев на Перл-Харбор (Военная история. 2015. № 10. С. 3).
В-четвертых, журналы изобилуют текстами (вне зависимости от рубрики), в которых изображены кровавые сражения и персонажи истории, совершившие множественные злодеяния (тот же интерес к необыденному, привлекающему своей гипертрофированно-стью). Даже рубрики называются «Кровавые земли» (в «Военной истории») и «Злодеи» (в «Военных историях»), а заголовки материалов характерны для таблоидной прессы: «Мясник по человечине. Древнекитайский генерал Бай Ци закапывал пленных живьем в землю!», «Палач из подвалов Лубянки».
В-пятых, развлекательность репрезентируется в духе так называемой альтернативной истории в рубрике с эмблематичным названием «Что, если бы…», что само по себе обладает мощным рекреативным потенциалом. Идеологи дискурсов актуализируют здесь проблему предсказуемости / непредсказуемости исторического движения, которое Ю. М. Лотман предлагал «мыслить не как траекторию, а в виде континуума, потенциально способного разрешиться рядом вариантов» [1996б. С. 325]. «Когда мы узнаем, какое из двух событий имеет место, мы получаем информацию. Предполагается, что оба события равновероятны и что мы находимся в полном неведении относительно того, которое произойдет» [Эко, 2006. С. 50]. Рекреативная журналистика дает, естественно, упрощенный вариант событийного ряда и, что принципиально, предоставляет читателю возможность фантазировать и сыграть в ретроспективную игру 5.
На фоне анонимного нарратива, «нулевой степени письма», свойственного большинству материалов издания, своей ироничностью выделяется статья Глеба Сташкова об основателе Рима – «Смерть Ромула. Основатель Рима – жертва заговора патрициев?» (отметим характерный вопросительный знак). Впрочем, ирония здесь в основном строится на распространенном в массовой журналистике способе популяризации – стилевом смешении, включении просторечий и сленга в стилистически нейтральное повествование: шайка из беглых рабов и прочей шушеры ; мы ему, конечно, верим, а вот римляне мамаше не поверили ; такого попрания демократии « отцы », они же патриции, вынести не смогли. И, судя по всему, замочили Ромула. Но народу сказали, что Ромул вознесся на небеса (Загадки истории. 2015. № 36. С. 3), что создает эффект «исторического» диссонанса, а следовательно, порождает комизм статьи в целом.
В-шестых, самым, пожалуй, мощным рекреативным потенциалом обладают такие формы развлекательного контента, как ребусы, сканворды, юмористические и анекдотические рубрики, используемые практически всеми видами и типами современных СМИ. Помещаются они традиционно в конце издания. В рассматриваемых нами еженедельниках это «Мозговой штурм» и «Окопный юмор». В первом случае читателю предлагается определить, какие элементы военного обмундирования и какое оружие не соответствуют эпохе, во втором приводятся факты анекдотического содержания (прежде всего, в современном значении этого слова): Как-то раз во время Великой Отечественной войны <…> в окружение попали несколько тысяч немцев. Наши предложили им сдаться. Немцы были хорошо вооружены <…> поэтому на предложение сдаться они ответили <…> вялой стрельбой. Наши же … протянули по всему периметру окружения колючую проволоку да понатыкали везде столбов и указателей, сообщавших, что отныне здесь расположен «лагерь для военнопленных»! В итоге одуревшие от такой наглости немцы просто сдались… (Военная история. 2015. № 10. С. 44).
В системе развлекательной исторической прессы весьма удачным проектом и с маркетинговой точки зрения, и с точки зрения распространения популярных знаний, на наш взгляд, является появившаяся несколько лет назад серия «Коллекционные оловянные миниатюры», предоставляющая своим читателям сразу две коммерческие услуги: тексты исторического содержания (сейчас реализуется серия «Солдаты Великой Отечественной войны» и «Наполеоновские войны») и их прямое материальное воплощение – оловянные солдатики (издание зарегистрировано как СМИ: имеет номер и выходит тиражом 7 750 экземпляров). Таким образом, история, как и в случае консервации ее в музеях, становится буквально реализованной метафорой, причем, в отличие от музейных экспонатов, еще и собственностью реципиента.
Список литературы Исторический медиадискурс в контексте рекреативной журналистики
- Барканова Е. В. Популяризация истории как медийная проблема//Учен. зап. Новгород. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. 2015. № 2. URL: http://www.novsu.ru/file/1165965.
- Дили Дж. Литературная семиотика и доктрина знаков//Критика и семиотика. 2014. № 1. С. 18-29.
- Константинова Е. Г. Популяризация науки на современном российском экране: кризис направления и пути преодоления//Медиаскоп. Электрон. науч. жур. факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 30.05.2009. URL: http://www.mediascope.ru/old/node/290
- Лотман Ю. М. Исторические закономерности и структура текста//Внутри мыслящих миров. Человек -текст -семиосфера -история. М.: Языки русской культуры, 1996б. С. 307-343.
- Лотман Ю. М. Проблема исторического факта//Внутри мыслящих миров. Человек -текст -семиосфера -история. М.: Языки русской культуры, 1996а. С. 301-306.
- Мак-Люэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатной культуры. Киев: Ника-Центр, 2003. 432 с.
- Маркасов М. Ю. Цифра и вещь в биографическом дискурсе современной журнальной периодики //Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 6: Журналистика. 2013. С. 93-99.
- Смирнов И. П. Новый историзм как момент истории. (По поводу статьи А. М. Эткинда «Новый историзм, русская версия)//НЛО. 2001. № 47. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/smir.html.
- Успенский Б. А. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. 608 с.
- Эткинд А. М. Новый историзм, русская версия//НЛО. 2001. № 47. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2001/47/edkin.html.
- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Symposium, 2006. 432 с.
- Яковенко И. А. Рынок научно-популярных журналов. Аналитический обзор. М., 2012.