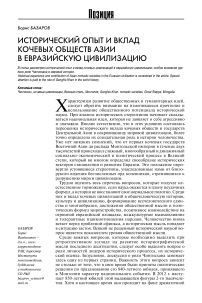Исторический опыт и вклад кочевых обществ Азии в евразийскую цивилизацию
Автор: Базаров Борис Ванданович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Позиция
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрен исторический опыт и вклад кочевых цивилизаций в евразийскую цивилизацию; особое внимание уделено роли Чингисхана в мировой истории.
Чингисхан, кочевые цивилизации, великая степь, монголия
Короткий адрес: https://sciup.org/170166580
IDR: 170166580
Текст научной статьи Исторический опыт и вклад кочевых обществ Азии в евразийскую цивилизацию
Х арактеризуя развитие общественных и гуманитарных идей, следует обратить внимание на изменившееся прочтение и использование общественного потенциала исторической науки. При анализе исторических стереотипов начинает склады -ваться национальная идея, которая не заявляет о себе агрессивно и эпатажно. Вполне естественно, что в этих условиях состоялась переоценка исторического вклада кочевых обществ и государств Центральной Азии в сокровищницу мировой цивилизации, более точно определена их созидательная роль в истории человечества. Уже нет никаких сомнений, что от первых кочевых государств Восточной Азии до распада Монгольской империи в течение двух тысячелетий происходил сложный, многообразный и динамичный социально - экономический и политический процесс в Великой степи, который во многом определил своеобразие исторических векторов становления и развития Евразии. Это положение опро-вергло устоявшиеся стереотипы, унаследованные нами от близо-рукого видения бесчисленных орд кочевников, стремившихся к разрушению мира и цивилизации.
Трудно оценить весь перечень вопросов, которые получат не -естественное торможение, если наука окажется в плену неудачных формул, а история не восстановит свое нормальное полотно. Среди них и вклад кочевых цивилизаций в общечеловеческую историю, культуру и цивилизацию, формирование всечеловеческого един ства и многообразия, достижения общественной мысли и поли -тических формул мироустройства, позитивное взаимодействие на огромной евразийской площадке, межкультурное взаимовлияние и толерантные взаимоотношения народов. Человечество вновь встает перед проблемой сфинкса, а историческая мысль попадает в ситуацию застоя. Всякий не решенный исторической наукой во прос является показателем уровня общественной мысли.
Среди важных вопросов, которые необхо димо выделить при ретроспективном взгляде на развитие историографической мысли последнего десятилетия, следует особо выделить вопрос о роли личностей лидеров исторического процесса, их историче ской оценке. Безусловно, дискуссия о роли Чингисхана занимает здесь одну из первых страниц. Важность этого вопроса зависит не столько от того, что в свое время были приняты политические решения по празднованию его 840-летнего юбилея, принявшего в Монголии характер национального события. В 2012 г. насту -пает 850-летний юбилей этой выдающейся фигуры 2-го тысячеле-тия. Хотя в настоящее время оно проходит на фоне драматичной выборной кампании, значение исторического опыта Монгольской империи только повышается в рамках монгольских государственных и автономных образований Внутренней Азии. Если мы не решим на высоком научном уровне проблему Чингисхана в определенных приемлемых научных формулах и не выведем ее из сферы некорректного политизирования, то не сможем в достаточной мере решить объективно огромный пласт вопросов исторического наследия монгольских народов и кочевых цивилизаций Центральной Азии. К числу перечисленных вопросов добавим еще и проблемы политогенеза в Евразии, формирования государств, создания и развития «имперской» идеи, складывания и преобразования административно-политической карты мира в эпоху азиатского средневековья и посткочевого периода мирового развития.
Среди суммы поднятых вопросов особый интерес вызывает геополитика Великой Монголии как один из феноменов истории. Дело в том, что все объективные показатели были не в пользу каких-либо геополитических преимуществ кочевых сообществ Великой степи. Достаточно заметить, что один фактор пустыни Гоби является показателем объективной децентрализации кочевников. Кочевое сообщество, расположившееся по окраинам Великой пустынной степи, формировалось локальными, дисперсными и замкнутыми группами, имело своеобразные социальные взаимодействия, основанные на длительной кочевой традиции. Эти группы имели одинаково сильные тенденции как к центростремительному взаимодействию, так и к центробежному процессу.
Однако существует возможность более спокойной оценки геополитических основ социальной истории Великой степи. Практически все источники свидетельствуют о том, что кочевое скотоводство являлось базовой основой экономики Центральной Азии. С основательными преобразованиями последних веков (кроме ХХ в.) эта формула практически не менялась. При нарастающем развитии этого типа хозяйствования используются преимущественно экстенсивные факторы. И что бы мы ни говорили о традициях, стремящихся ограничить антропогенную нагрузку на почву, всегда можно найти любопытные исторические факты, свидетельствующие о том, что при благоприятном стечении обстоятельств народы не всегда следуют здравому смыслу. Кочевое скотоводство, которое в силу естественных экономико-географических факторов не могло опираться на возделывание почвы, носило совершенно линейный характер и характеризовалось практически полным отсутствием диверсифицирующих возможностей. Если это так, то не составляет большого труда пересчитать возможности народонаселения Великой степи и проследить логику социогенеза.
В XII в. мы видим нарастающую борьбу монгольских племен за политическую власть в Степи, которая в своей основе была борьбой за лучшие условия хозяйствования. Это вечный вопрос расположения больших групп населения, расположения пастбищ и передвижения скота. Возросшая борьба за эти возможности во второй половине XII в. и постоянное переподчинение одних групп населения другим говорит о необходимости усиления социальных функций регулирования ранее полустихийного процесса хозяйствования. Не случайно позднее Чингисхан, кроме понятия «обычай», был вынужден внести понятие «закон». Если учесть, что данное обстоятельство само по себе является свидетельством предельных размеров кочевого хозяйства, то нужно пересчитать пределы антропогенной нагрузки на Великую степь, исходя из оптимального районирования и размеров хозяйства. Даже при самой малой плотности населения на один километр народонаселение всей Великой степи становилось избыточным. И если учитывать версию увлажнения Степи в течение XII в., то благоприятный рост народонаселения мог удвоить общую популяцию. При этом практически каждое десятилетие давало нарастающие характеристики народонаселения, которые имели необратимые последствия. Поэтому становится понятной уверенность кочевников в военно-политическом успехе тех акций, которые они предпринимали.
Однако главное условие этого успеха заключалась в консолидации союзов племен и полугосударств, расположенных в Степи. Великий Китай пристально наблюдал за развитием политического процесса в течение многих веков, умело маневрировал в степной интриге, внес много ценных приемов в степную дипло -матию, до блеска довел стратегию фор -мулы «разделяй и властвуй». Можно было уверенно заниматься делами в собствен -ной стране, когда кочевое сообщество было разделено. Но исторически сложи -лось так, что контроль над ситуацией в Степи был утрачен, определилась идея консолидации кочевых сообществ и на повестку дня встала отработка формы ее реализации. Практически все источ-ники доносят до нас сведения о попытках использования разных форм достиже ния этой цели — от степной демократии с ее обычным правом до авторитарной системы с ее степной бюрократией. Как показывает исторический опыт, в таких случаях самым прямым и эффективным политическим решением бывает фор -мирование военно бюрократического государства с прямой линией упрочения идеи власти. Линия и идея Чингисхана была выбрана как общенациональная, общестепная. Существующее в лите ратуре мнение о том, что он объединил народ только силой оружия, совершенно кровожадными диктаторскими устремле ниями, очевидно, скоро будет уточнено, если не пересмотрено. Скорее всего, нам придется еще дать интерпретацию сложному и многообразному процессу консультаций и переговоров, когда были найдены новые формы жизнеустрой ства. Пока же очевидна сама идея соче-тания великих древних традиций коче вого сообщества с устойчивым законом государства, регулирования социально экономических и политических отноше ний силой государства. Идея Империи стала выше идеи Демократии. Заметим, что не раз иронично обсуждаемое изре чение Чингисхана о вечности государства на самом деле является исключительно сильным с точки зрения любого процесса государственности или государственного строительства. Пусть слово «вечность» звучит слишком сильно, но теперь мы точно знаем, что государство не может существовать без сочетания традиций и закона. Если нет традиций, то нет гражда-нина, идеологии, идей, нравственности и морали. Если нет закона, то нет основы, на которую опирается вся конструкция.
В свою очередь, имперское объедине-ние нескольких миллионов людей в полу пустынной степи, формирование высоко профессиональной армии, возглавляемой стихийными и харизматичными полко водцами, выработка прагматичных целей — привлечение торговых и финансовых ресурсов, рост государства и дипломатии вызвали новые внутренние и внешние проблемы. Военное объединение гро мадных территорий, пусть даже малоза селенных, не может не вызвать дополни тельных коллизий и проблем на геополи тической шахматной доске. Обращают на себя внимание фактор наступательной внешней политики, превентивные дей ствия по отношению к предполагаемому противнику, точная выработка военной доктрины.
Нельзя отрицать агрессивный харак-тер внешней политики империи Чингисхана. Без этого не существовало бы Монгольской империи. В то же время нельзя с позиций абстрактного моралиста рассматривать сложнейший историко политический процесс. Скажем больше, вклад Чингисхана и Чингисидов в основы стратегической военной ини циативы настолько высок, что можно смело заявить: «Пока существуют война и вооруженные силы, до тех пор будет жить Чингисхан». Превосходная военная тактика, стратегическая инициатива, глу бокие коммуникации, невероятные даже для сегодняшнего времени способы и методы переброски войск, своевременное их сосредоточение дали дополнительные возможности усиления геополитического влияния.
В идеях управления миром представляет несомненный интерес система полити ческого контроля, который опирался на военно административную систему. Если не во всем монгольские правители были оригинальны, то система гарнизонной службы, военные округа, их взаимодей ствие и подчиненность центру, а также исключительно сильная система связи из века в век повторяются всеми великими государствами без упоминания авторов. Нужно отметить, что эта система созда валась в условиях первого опыта миро вой глобализации. Как замечают многие специалисты по геополитике, только И. Сталину в период 1949—1953 гг. в неко-торой степени удалось установить такой контроль над громадной территорией.
Просуществовав несколько веков, Монгольская империя исчезла. Такое выдающееся многообразное сообщество просто не могло существовать по традициям и законам Ясы. Мир кочевников постепенно растворялся в созданных ими условиях, ассимилируясь и принимая законы, традиции и обычаи завоеванных территорий. Своеобразная номадическая культура оказалась неконкурентоспособной по сравнению с оседлыми земледельческими культурами. И это обстоятельство послужило к тому же и забвению многовековой истории. Добавим, что основная государственно-политическая идея Чингисхана, а именно династий-ность власти, не была реализована его детьми. Главное его опасение – утрата народом традиций и закона – сбылось с ужасающей полнотой. Как не вспомнить его горестное: «Вы будете искать Чингисхана, но не найдете его».
Завоеванные государства от поколения к поколению набирали силы, что в конечном итоге привело к распаду великого государства. Инерция исторического распада имела столь мощные характеристики, что проявившиеся неудержимые центробежные силы привели к разрушению видимого единства – сначала Монгольской империи, а затем и монгольских государств. При отсутствии заградительных механизмов стихия исторического творчества продолжила далее свое разрушительное действие до процессов этнического трайбализма и поставила ранее консолидированное сообщество на грань полного распада. Процессы деления получили свое развитие даже тогда, когда государственность была утрачена полностью, а племена и народы в течение длительного времени находились в составе других государств. Думается, что свою роль в этом сыграла верность кочевым племенным традициям, в то время как более цивилизованные формы регулирования социальных отношений стали уступать свое место. Так завершилась тысячелетняя история кочевников и кочевых цивилизаций.
Период создания, развития и расцвета средневековой монгольской государственности имеет важное историческое значение двоякого рода. Во-первых, на основе средневековой модели государственности центральноазиатского историко-культурного ареала было создано мобильное и боеспособное государство монголов, заложены основные черты будущей монгольской нации, создан единый литературный язык монголов, а история монголов получила письменное освещение на основе развития письменной культуры. Вторым немаловажным событием мировой истории стало создание мировой империи под эгидой династии потомков основателя Монгольского государства Чингисхана. Значение этого периода всемирной истории до сих пор остается в целом недооцененным. Между тем, опыт средневековой Монгольской империи был продолжением опыта создания других древних и средневековых империй Востока и Запада. Ценность монгольского опыта заключается в том, что он запечатлен в разнообразных письменных источниках на разных языках, доступных для изучения, в отличие от многих более ранних государств.
Особое значение этот опыт имеет для государств евразийского историкокультурного ареала. Изучаемый автором настоящего исследования имперский период монгольской государственности, при котором, наряду с развитием имперской идеологии и государствообразующих структур, имели место масштабные проекты переселения народов, поворотов рек, развития земледелия в районах Монголии и параллельно – скотоводства в определенных областях Китая, напоминает период строительства эпохи социализма. В этой связи закономерно было бы проследить в работе основные этапы становления, развития, расцвета и переразвития военной дружины времен Чингисхана до имперско-бюрократического аппарата поздней эпохи Юань, при которой аппарат превратился в паразитирующую и регрессивную силу, вызвавшую народное сопротивление, которое изгнало последних представителей монгольской династии из Китая. Что касается истории государственности на просторах Евразии, то, будучи наследницей монгольской государственности, государственность российская станет тем более понятна, чем глубже и объективнее будет в дальнейшем изучена яркая страница мировой истории – средневековая Монгольская империя.
Постимперский опыт Монголии не является исключением из истории становления, расцвета и разложения других могущественных империй. Как известно, с крушением династии Юань значительная часть монгольского этноса осталась на территориях сопредельного Китая, а также в гарнизонах других улусов импе -рии на Западе. Однако сама государствен -ность монголов не исчезла. Монголы оставались значительной и если не глав -ной, то решающей политической силой в Центральной Азии вплоть до рубежа XVII—XVIII вв. В постимперский период существовали различные типы государ ственных образований — от независимых и полунезависимых этнотерриториаль-ных монгольских ханств и княжеств до феодально-теократической, конститу-ционной монархии вплоть до создания народной республики. Руководствуясь принципом «двух законов» в период XVI— XVII вв. в острой политической борьбе с имперским Китаем Монголии удается отстоять свою независимость и в начале ХХ в. образовать единое государство под эгидой Богдо-гэгэна.
С завершением длительного историко -культурного периода силового домини рования на огромных пространствах мон голы, как прежде тибетцы, значительно ранее пережившие опыт имперского раз вития, обращаются к буддизму, и основ ные силы нации находят свое воплоще ние в длительном этапе духовного пости жения высшего предназначения человека на земле, природы человека. Так эпоха героического эпоса уступает место эпохе глубоких душевных исканий. Активное освоение монголами буддийской обра зованности, науки и философии привело к тому, что они создали тибетоязычную и монголоязычную литературу, н ау ку, искусства, ремесла и тем самым внесли значительный вклад в поддержание и развитие древней буддийской цивилиза ции. Основы этого опыта, первые пред посылки, общегосударственные идеалы буддийского мировоззрения были зало жены в эпоху расцвета империи Юань, т.е. задолго до активного распростране-ния буддизма среди массы монголов.