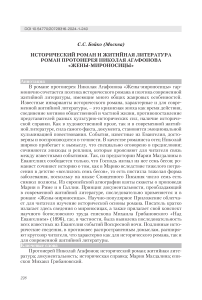Исторический роман и житийная литература роман протоиерея Николая Агафонова «Жены-мироносицы»
Автор: Бойко С.С.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 1 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
В романе протоиерея Николая Агафонова «Жены-мироносицы» гармонично сочетается поэтика исторического романа и поэтика современной житийной литературы, имеющие много общих жанровых особенностей. Известные инварианты исторического романа, характерные и для современной житийной литературы, - это кризисная эпоха как время действия, соединение мотивов общественной и частной жизни, противопоставление представителей разных культурно-исторических сил, наличие исторической справки. Как в художественной прозе, так и в современной житийной литературе, сила самого факта, документа, становится эмоциональной кульминацией повествования. События, известные из Евангелия, достоверны и воспроизводятся в точности. В качестве романиста отец Николай широко прибегает к вымыслу, что специально оговорено в предисловии; сочиняются эпизоды и реплики, которые проясняют для читателя связь между известными событиями. Так, из предыстории Марии Магдалины в Евангелиях сообщается только, что Господь изгнал из нее семь бесов; романист сочиняет историю о том, как в Марию вследствие тяжелого потрясения в детстве «вселилось семь бесов», то есть постигла тяжелая форма заболевания, поскольку на языке Священного Писания число семь есть символ полноты. Из европейской агиографии взяты сюжеты о проповеди Марии в Риме и в Галлии. Принцип документальности, преобладающий в современной житийной литературе, последовательно применяется и в романе «Жены-мироносицы». Научно-популярное Приложение облегчает для читателя изучение исторической основы романа. Писатель кратко излагает здесь сведения о мироносицах, а также прилагает свой конспект научного богословского труда епископа Михаила Грибановского «Над Евангелием» (1896), где, в частности, была выявлена последовательность всех известных из Евангелия событий Воскресной ночи. Подлинные исторические сведения, в противовес распространенным домыслам, расширяют кругозор читателя, что характерно как для исторического романа, так и для современной житийной литературы.
Протоиерей николай агафонов, исторический роман, житийная литература, документальность, историческая справка, мария магдалина, епископ михаил грибановский
Короткий адрес: https://sciup.org/149145268
IDR: 149145268 | DOI: 10.54770/20729316-2024-1-240
Текст научной статьи Исторический роман и житийная литература роман протоиерея Николая Агафонова «Жены-мироносицы»
Протоиерей Николай Агафонов (1955–2019) – клирик Православной церкви, миссионер, ректор и преподаватель Духовной семинарии – с 2001 г. занимался также литературной деятельностью. Из-под его пера вышли рассказы, в которых отразился пастырский опыт, и повести на материале истории разных стран и эпох, от века апостольского до века двадцатого. О. Николай в 2014 г. стал лауреатом Патриаршей литературной премии имени свв. равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Отец Николай создал два исторических романа: «Иоанн Дамаскин» (2007) и «Жены-мироносицы» (2009). Оба они отвечают требованию «точной и согласной с действительностью разработки времени (couleur historique) и места (couleur locale), в рамках которых располагается действие <...>» [Благой 1925, 337].
В романе «Жены-мироносицы» присутствует ряд инвариантов, характерных для исторического романа: «Кризисная эпоха как время действия романа», «Соединение тем (мотивов, сюжетных ситуаций) <...> общественной и частной жизни», «Наличие персонажей, противопоставленных друг другу, в качестве представителей разных социально-исторических и культурно-исторических сил», «Присутствие исторической справки» [Малкина 2002, 74].
В то же время роман отличают особенности, характерные для современной житийной литературы. На этом малоизученном явлении остановимся подробнее.
Житийная литература в России, по мнению специалистов, уже с XIX в. обнаруживает новые для нее жанровые особенности, предопределенные требованием научной достоверности: «Житие как вид церковной письменности не перестает существовать, но наряду с ним возникает и церковное жизнеописание, к-рое, сохраняя традиц. агиографические задачи, имеет одновременно исследовательский характер» [Трубачев 2013].
Такими качествами уже обладала, например, повесть Б. Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), в которой личностная интонация повествователя сочетается «с принципом исторической объективности, с ориентацией на достоверные источники» [Ничипоров 2019, 127]. В своей работе Б. Зайцев использовал «исследования по истории России и по истории церкви, некоторые из которых упомянуты в примечаниях писателя» [Пак 2007, 35].
На протяжении XX–XXI вв. жанры житийной литературы и художественной прозы продолжали сближаться. Если современная проза может быть ориентирована на достоверные источники, то и «современная агиография в качестве основной формы повествования избирает документальную прозу» [Дорофеева 2019, 130].
Рассмотрим соотношение в романе «Жены-мироносицы» жанровых особенностей исторического романа и житийной литературы.
В предисловии «От автора» о. Николай размышляет о своеобразии подвига своих героинь: «В подвиге жен-мироносиц раскрылась вся высота женского служения Богу и миру» [Агафонов 2015, 5]. Преклонение перед особым служением женщины подчеркнуто также в посвящении: «Моей дорогой жене Иоанне с глубокой благодарностью и нежной любовью посвящаю» [Агафонов 2015, 3]. Замысел – показать служение мироносиц как высокий образец для подражания – соответствует целям, присущим агиографии, поскольку «одной из главных задач создания жития является духовно-нравственное назидание» [Трубачев 2013].
В предисловии оговорены и жанровые принципы книги как исторического романа: «<...> прошу читателя помнить, что перед ним прежде всего художественная проза, где исторические факты переплетены с домыслами и предположениями автора» [Агафонов 2015, 6].
Притом подчеркивается, что упомянутые в Евангелии факты входят в повествование как непреложная данность, подобно тому, как это бывает с документальными источниками: «Единственное, где я не позволял себе домысливать что-либо от себя, так это описание евангельских событий. В этом мое повествование неукоснительно придерживается духа и буквы Священного Писания, а также святоотеческого толкования Евангелия» [Агафонов 2015, 6].
С каждой из известных жен-мироносиц связана в романе отдельная сюжетная линия. Рассмотрим соотношение в них достоверности и вымысла, присущее историческому роману.
Самая протяженная линия сюжета – это жизнь Марии Магдалины – от детского возраста до преставления и посмертия.
Евангелия не рассказывают подробно об обращении Марии Магдалины и о ее встрече со Спасителем, «замечая лишь, что это было связано с ее исцелением, как и других женщин, от злых духов и болезней (вариант – немощей) (ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν – Лк 8. 2; ср.: «от духа немощи» – πνεῦμα ἀσθενείας – Лк 13. 11)» [Петров 2021]. Отец Николай Агафонов подчеркивает также: «Образное выражение “вышли семь бесов” указывает на то, что Магдалина страдала тяжелым заболеванием, т.к. на языке Священного писания число семь есть символ полноты» [Агафонов 2015, 223].
Романист Агафонов сочиняет историю о жестоком убийстве любимого отца Марии, которое произошло на глазах у девочки, едва спасшейся от разбойников. Вымышленная история предлагает вариант объяснения того, каким образом ребенка постигла крайне тяжелая форма одержимости – «вошли семь бесов».
Писатель употребляет имена родителей Марии, которая, согласно европейской агиографии, «родилась в благородной и богатой семье, ее отца звали Сир, а мать – Евхаристия» [Лосева 2021]. В романе достаток семьи объясняется успешной торговлей Сира.
В повествовании о событиях после Воскресения Христова Агафонов также использует известные из агиографии и иконографии сюжеты о поездке Марии в Рим и разговоре с императором Тиберием (которому она подарила красное яйцо), упоминает об успешной ее проповеди в Масси-лии (ныне Марсель) [Лосева 2021]. Героиня завершает свой земной путь в Эфесе, где, согласно роману, сообщает Иоанну Богослову подробности о явлении мироносицам воскресшего Учителя и узнает от него об их дальнейших судьбах.
Создавая образ уроженки прибрежной Магдалы, писатель делает ее превосходной пловчихой и ныряльщицей. В семь лет девочка провожает вплавь торговый караван своего отца, в тринадцать спасается под водой от его убийц. Мироносица Мария в путешествии спасает попутчиков своими молитвами, а на подходе к Массилии Галльской, когда корабль разбит, понадобилось и ее умение плавать: «Мария Магдалина, старый моряк и юноша спустились в воду и, работая ногами, стали толкать перед собой плот к берегу» [Агафонов 2015, 194].
Морская тема и завершает историю о земном пути Марии. В эпилоге она вновь на берегу – в Эфесе: «Море не очень походит на озеро ее детства и юности, но ей до боли хочется представить себе, что это именно ее родное Геннисаретское озеро» [Агафонов 2015, 216]. Покинув свое тело, она, как в детстве, запустила камушек по воде – и, приняв напутствие знакомого ей Ангела,– «Пошла прямо по водам сверкающего невообразимой голубизной моря» [Агафонов 2015, 218].
Мироносица Иоанна появляется в романе, когда выходит замуж за Хузу, будущего домоправителя Иродова. Находясь во дворце, супруги непосредственно наблюдают происшествия, описанные в Евангелии, что позволяет романисту показать все совершающееся через призму личного переживания героев. Так, Хуза с ужасом сообщает жене, что видел пляску падчерицы Ирода и слышал переданное через нее требование Иродиады.
Через образы Хузы и Иоанны показано, как современные им события (крещение Иоанново, строительство Тивериады и др.) воспринимались в русле иудейской культуры. Например, «танцевать для женщины, да еще знатной, в собрании мужчин считалось недопустимым нарушением приличий. Только рабыням, в угоду своим господам позволялось, легко одевшись, плясать во время пиров» [Агафонов 2015, 102]. Пляска Саломеи вписана в важное религиозное противоречие – между единобожием и насаждаемым извне идолопоклонством в Иродовой стране. Плясунья воспитана как современные ей иностранки, да и гости Ирода «мало ценят отеческие обычаи, а более стараются угодить римлянам» [Агафонов 2015, 102].
В некоторых событиях супруги участвуют сами. Это позволяет выстроить факты, известные читателю Евангелия, в сюжетную линию. Так, Иоанна в романе становится свидетелем проповеди Предтечи, крестится от него в Иордане, одновременно с одним из воинов, с которым они впоследствии поддерживают друг друга. Благодаря этому знакомству она сможет проводить учеников к заключенному Иоанну Крестителю, а затем к его обезглавленному телу, чтобы забрать его из дворца для погребения. Хуза случайно видит Иродиаду, которая ночью с загадочным свертком крадется за конюшни, и сообщает об этом жене, которая затем найдет и с почестью захоронит честную главу Пророка. Сюжет последнего события заимствован автором из церковного предания, отразившегося в византийских, славянских и грузинских рукописях.
Мироносица Саломия, мать апостолов Иакова и Иоанна, была старшей дочерью Иосифа, плотника из Назарета. С ее образом связана оппозиция между земными ценностями и духовными устремлениями человека. В первой главе романа она невеста рыбака Зеведея, который изображен как приверженец своего ремесла, рачитель семейного достатка.
Описаны свадебные обряды того времени, песнопения, которые девушка знает наизусть, – так передается колорит времени и места.
Описано и благочестивое семейство Иосифа. Это экспозиция ряда сюжетных линий романа, поскольку многие главные герои состоят между собой в родстве / свойстве. Саломия, воспитанная праведным Иосифом, размышляет в связи с деятельностью своего мужа: «Хорошо, конечно, когда сын идет по стопам отца, но еще лучше, когда человек прежде всего следует путями Господа» [Агафонов 2015, 27].
Когда сыновья пойдут со Спасителем, она, как известно, отправится вместе с ними. Далее в эпизодах, известных из Евангелия, она предстает сначала лицеприятной матерью: «Ее материнскому чувству льстило, что Иисус особо выделяет ее сыновей среди других учеников» [Агафонов 2015, 136]. В недолгом времени Саломия поймет пророчество Спасителя о чаше, которую приверженцы изопьют вместе с Ним: «И поняв, о какой чаше говорил Господь, она уже не отступит от своих обещаний пить эту чашу вместе со Христом. Она пойдет со своим Учителем на Голгофу» [Агафонов 2015, 138].
Вымышленные романистом эпизоды заполняют пробелы в биографиях мироносиц, указывая на смысловую связь между как бы разрозненными событиями. Например, показано, почему юную Марию постигла тяжкая одержимость и как сложилась группа женщин, исцеленных Христом и следовавших за Ним (в романе Иоанна тоже тяжело болеет после потрясения, вызванного казнью Предтечи).
Сюжетные линии романа связаны со сквозными мотивами – таков, например, мотив моря как проекции Вечности в жизни Магдалины – и со смысловыми доминантами в их соотношении – таковы доминанты земных ценностей и духовных устремлений в судьбе мироносицы Саломии, матери сыновей Зеведея. Через образ Иоанны показано, в частности, соотношение культурных ориентиров римского и израильского толка, которые тесно соседствовали в Израиле времен Христа. Таковы в историческом романе приемы «точной и согласной с действительностью разработки» времени и места [Благой 1925, 337].
Противоположный полюс системы персонажей в романе представлен образами Иродиады, ее дочери и членов царской семьи. В связи с ними выстраивается тема преступления и наказания, выявляется связь между смыслом поступков и судьбой человека. Биографии прототипов являются предметом споров в научной литературе [Неклюдов, Ткаченко 2016]. Описывая этих героев, Агафонов ориентируется не на спорные мнения, а на устоявшиеся легенды и антропонимику, получившие широкое распространение в европейской культуре. Например, имя плясуньи не названо в Евангелии, не описана и ее дальнейшая судьба. Имя Саломеи появляется в книге Иосифа Флавия «Иудейские древности» (I в. н.э.), а предание о страшной ее смерти приводит свт. Димитрий Ростовский (конец XVII – начало XVIII в.).
Тем самым, принципы, на которых строятся образы антигероев, несколько отличаются от принципов, на которых строятся образы жен-мироносиц. Антигерои могут соответствовать моделям, распространенным в культуре, независимо от степени их достоверности. По сути такие сюжеты представляют собой тот же вымысел, но, возможно, заранее знакомый читателю. Такова история о смерти Саломеи, обезглавленной сомкнувшимися льдинами на зимней реке.
Напротив, в отношении святых мироносиц, как ближайших последователей Господа и первых свидетелей Воскресения, факты имеют особое значение, требуют повышенного внимания. А домыслы, получившие широкую популярность в современной массовой культуре, вынуждают писателя к полемике.
В большом разделе «Приложение», в частности, отмечено, что образ Марии Магдалины, который с древних времен по-разному смешивали с образами других женских персонажей Евангелия (ср.: [Петров 2021]), утвердился в западно-католическом предании в неправдоподобном виде: «Католическое предание ассоциирует Марию Магдалину с Марией, сестрой Лазаря <…> а также с евангельской блудницей, умывающей ноги Христа слезами. Отсюда у них родился образ кающейся Марии Магдалины – блудницы, что в будущем породило на Западе немало кощунственной литературы. Фильм “Последнее искушение Христа” и книга “Код да Винчи” есть прямое следствие западного искаженного образа» [Агафонов 2015, 224]. В Приложении, как видим, изложено содержание исторических источников и приведен их анализ. Подчеркивается неправдоподобие ходячих мнений, внедрившихся в сознание тех современников, которые мало знакомы со Священным Писанием.
Выше мы отметили авторскую интенцию – духовно-нравственное назидание, – которая связывает поэтику «Жен-мироносиц» с поэтикой житийной литературы, и прием документальности, общий для современной агиографии и художественной прозы.
В случае «Жен-мироносиц» важно учитывать, что жизнеописание святых, подвизавшихся две тысячи лет назад, создается в новейшее время, в соответствии с современными формами агиографии. В качестве исторического источника в первую очередь здесь выступает Евангелие.
О. Николай в предисловии подчеркивает, как мы помним, разницу между событиями, известными из Евангелия, и теми, которые он сочинил сам. Эта разница может быть более или менее очевидной для читателя – в зависимости от подготовки. Писатель облегчает для нас оценку соответствия, снабдив книгу вышеупомянутым научно-популярным Приложением.
В Приложении автор приводит сведения о каждой из жен-мироносиц, известные из Евангелия и предания, снабжая их пояснениями, например, к Лк. 8: 1–3: «Из этого текста Евангелия мы можем сделать вывод, что женщины, следовавшие за Христом, были не просто частью “множества народа”, толпы, которая окружала и теснила Христа в жажде чуда исцеления. Нет, эти женщины были, по выражению евангелиста, “некоторые”, следующие за Христом и служащие Ему. То есть они не только внимали поучениям Христа, но и служили Ему» [Агафонов 2015, 221–222].
Отдельная глава Приложения отведена событиям Воскресной ночи. Автор приводит обоснование последовательности событий, выполненное ученым богословом: «Восстановление последовательности событий воскресной ночи, предпринятое епископом Михаилом (Грибановским) согласно анализу текста всех четырех евангелистов» [Агафонов 2015, 233]. Агафонов дает и ссылку на одно из современных переизданий научного труда о. Михаила (2001 г.), первоначально опубликованного в 1896 г.
В Приложении о. Николай помещает свой конспект и приводит выводы из богословской работы о. Михаила (Грибановского), который в своей книге «Над Евангелием», в частности, отмечал: «Каждая из них [Мироносиц. – С.Б.] рассказывает исключительно только то, что сама видела и сама испытала, участвуя в одной какой-либо части события и в том или другом его моменте. Такая необычайная и настойчивая точность свидетельств сама собой ведет к их разнообразию» [Грибановский 2015, 186]. Поэтому, согласно доказательствам о. Михаила, описания событий Воскресной ночи не противоречат одно другому, а дополняют друг друга. В конспекте о. Николая «разнообразные движения жен-мироносиц» и апостолов Петра и Иоанна разделены на 11 этапов.
В романе обыгран убедительный вывод епископа Михаила о том, что каждый из евангелистов писал со слов одной из мироносиц: «<...> рассказы о воскресной ночи шли к ним [Евангелистам. – С.Б.] от различных лиц, т.е. в данном случае от различных жен Мироносиц как непосредственных свидетельниц события» [Грибановский 2015, 185]. В частности, романист создает сцену, в которой Магдалина сообщает апостолу Иоанну известные ей подробности событий Воскресной ночи.
Полученная из научного богословского источника схема становится в романе основой сюжетной линии. Полностью воспроизводятся события, известные из Евангелия. Вымышленные реплики персонажей вписываются в эту линию, например: «– Не огорчайся, Магдалина, – успокаивала ее Мария Клеопова, – тебе не поверили апостолы, а мне не поверил собственный муж. Вот уж кому бы огорчаться! Так и ушел с Лукой в Эммаус, сказав, что все это мне померещилось» [Агафонов 2015, 180].
Итак, в книге «Жены-мироносицы» поэтика исторического романа и формы современной житийной литературы гармонично сочетаются между собой.
Прежде всего, потому, что у них много общих жанровых особенностей. Кризисная эпоха как время действия, соединение мотивов общественной и частной жизни, противопоставление представителей разных культурно-исторических сил и даже наличие исторической справки [Малкина 2002, 74] – все эти инварианты исторического романа характерны также для современной житийной литературы.
Как в художественной прозе, так и в современной житийной литературе, «Используется сила самого факта, документа, который становится эмоциональной кульминацией всего повествования…» [Дорофеева 2019, 130]. Научно-популярное Приложение облегчает понимание исторической основы романа.
Яркие эпизоды и описания – как вымышленные, так и заимствованные из предания, агиографии, иконографии – делают материал занимательным, художественно убедительным и понятным для любого читателя. Так одновременно решаются и задачи агиографа, и задачи романиста.
Список литературы Исторический роман и житийная литература роман протоиерея Николая Агафонова «Жены-мироносицы»
- Агафонов Николай, протоиерей. Жены-мироносицы: Исторический роман. 5-е изд. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2015. 240 с.
- Благой Д. Исторический роман // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 1: А–П. М.; Л.: Издательство Л.Д. Френкель, 1925. Стб. 335–342.
- Грибановский Михаил, епископ. Над Евангелием / сост., вступ. ст. П. Хондзинского. М.: Книжный клуб Книговек, 2015. 384 с.
- Дорофеева Л.Г. Русская словесность в контексте национальной духовной традиции. Калининград: Издательство Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, 2019. 180 с.
- Лосева О.В. Мария Магдалина в византийской и новогреческой агиографической традиции // Православная энциклопедия. Т. 43. [2021]. URL: https://www.pravenc.ru/text/2562144.html?ysclid=ln32421dwp898612522 (дата обращения: 04.10.2023).
- Малкина В. Поэтика исторического романа: Проблема инварианта и типология жанра. Тверь: Тверской государственный университет, 2002. 140 с.
- Неклюдов К.В., Ткаченко А.А. Иродиада // Православная энциклопедия. Т. 26. [2016]. URL: https://www.pravenc.ru/text/674091.html?ysclid=lmqezpg59j55828775 (дата обращения: 04.10.2023).
- Ничипоров Илья, священник. Русская литература и Православие: пути диалога. М.: ИП Захаров Н.С., 2019. 288 с.
- Пак Н.И. Традиция в литературе: учебное пособие. Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2007. 154 с.
- Петров А.Е. Мария Магдалина в Евангелиях; Мария Магдалина в экзегезе древней церкви // Православная энциклопедия. Т. 43. [2021]. URL: https://www.pravenc.ru/text/2562144.html?ysclid=ln32421dwp898612522 (дата обращения: 04.10.2023).
- Трубачев Андроник, игумен. Житийная литература. XVIII – нач. XX в. // Православная энциклопедия. Т. 19. [2013]. URL: https://www.pravenc.ru/text/182317.html (дата обращения: 04.10.2023).