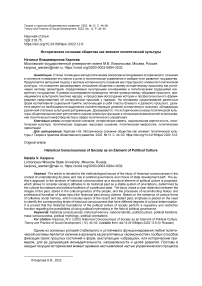Историческое сознание общества как элемент политической культуры
Автор: Карпова Наталья Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 12, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена методологическим вопросам исследования исторического сознания в контексте понимания его места и роли в политическом управлении и выборе пути развития государства. Предлагается авторский подход к анализу исторического сознания как структурного элемента политической культуры, что позволяет рассматривать отношение общества к своему историческому прошлому как устойчивую систему ориентаций, определяемую культурными основаниями и политическими традициями конкретного государства. В рамках исследования проводится четкая граница между образами прошлого, хранящимися в культурной генетике народа, и процессами воссоздания истории и профессионального формирования представлений об историческом прошлом у граждан. На основании существования различных форм коллективной социальной памяти, включающей в себя пласты близкого и далекого прошлого, делается акцент на необходимости выделения соответствующих уровней исторического сознания, обладающих различной степенью культурной детерминации. Доказывается, что исторические основы политической культуры общества выполняют регулятивно-ограничительную функцию в отношении возможностей использования политического мифотворчества в сфере политического управления.
Историческое сознание, историческая память, национальная идентичность, политическая культура, политические традиции, массовое сознание, политическая мифология, политические ориентации
Короткий адрес: https://sciup.org/149141959
IDR: 149141959 | УДК: 316.75 | DOI: 10.24158/tipor.2022.12.6
Текст научной статьи Историческое сознание общества как элемент политической культуры
,
становится определение политической системой своего места в пространстве координат, которые сформировались в ходе периодов и состояний ее предшествующего развития. Фактически обращение к собственной истории, выстраивание как позитивных, так и негативных образов исторического прошлого для политической системы выступает принципиальным условием для жизнеспособности ее настоящего, особенно в случае резких политических изменений и кризисных состояний. Да и, в принципе, выработка эффективного политического курса без учета исторических факторов не представляется возможной.
Конечно, в современном мире существуют такие позиции, в которых декларируется, что обращение к исторической преемственности характерно в основном для периодов «формирования национальных государств, когда вновь образованным нациям требовался образ единой длительной национальной истории», причем чем «неувереннее нация себя чувствует, тем большую она испытывает нужду в приемлемом образе прошлого» (Шнирельман, 2018: 14). А проблема национальной истории для старых наций Европы и Северной Америки «кажется уже перевернутой страницей исторической книги». Это, на наш взгляд, не является вполне объективным, поскольку, например, кампания по Брекзиту в Соединенном Королевстве прежде всего была выстроена на возрождении исторической преемственности и независимости Британской империи. Да и идея «Pax Americana» не является отжившей и регулярно проявляет себя в содержании стратегий президентских кампаний в Соединённых Штатах.
Позиционирование политической системой себя в историческом континууме главным образом осуществляется «сверху» посредством разработки и внедрения идеологических концепций и оснований текущей политики в процессе реализации управленческих функций. Но вместе с тем обеспечение легитимации политического курса, создание и сохранение ценностнно-норма-тивной базы, в том числе характеризующей историческую преемственность политического процесса, требует соответствующих социальных условий и оснований, а именно: поддержки со стороны общества и выработки необходимого консенсуса между обществом и властью.
В механизме функционирования политической системы выстраивание символических договорных принципов между обществом и политическими институтами происходит не только на формальном уровне – в конституционном воплощении, но и на уровне неформальном – на основе единых политико-культурных ценностей, традиций и ориентаций граждан по отношению к общественным институтам. По сути, политическая культура выступает в качестве детерминирующего фактора, который в соответствии со своим содержанием предопределяет реальные возможности формирования конкретных государственных идеологем, координируя желаемые цели политических институтов и запросы со стороны общества. Ведь главным в политической культуре является то, что в ней сконцентрирован и сохранен весь политический опыт и политическая история народа, его политическая мифология и традиции, которые в совокупности формируют и проявляют не только отношение общества к текущей политике, но и выражают его историческое сознание. Отсюда успех исторического выбора любой политической системы всегда будет зависеть от характера, особенностей и содержания присущей ей политической культуры. И практика не раз показывала, что выстроить дееспособные институты на фундаменте, сконструированном в формате чуждой культуры, оказывается очень сложно.
Показательным примером этого является закономерность нежизнеспособности либеральных идеологий на российской почве, причем на разных этапах исторического развития нашей страны. Ни одна из проводившихся в стране либеральных реформ так и не достигла декларируемых целей, а каждая из попыток подобных трансформаций впоследствии вела к обратному результату – укреплению российского традиционализма. Так, и либеральные проекты конца ХХ в., под эгидой которых началось кардинальное реформирование страны, подразумевавшее в своем замысле слом традиционных основ российского общества, привели к печальным для государства последствиям, но в итоге не смогли укоренить в массовом сознании идею о необходимости развития страны по пути западных демократий. И даже, наоборот, реакция на неудачные реформы вылилась в запросы общества на появление сильного лидера, способного обеспечить стране порядок и стабильность, что фактически стало началом консервативного ренессанса, который, по сути, в настоящее время и определяет исторический выбор страны.
Обращение к исследованию исторического сознания как элементу политической культуры в методологическом плане позволяет отойти от ситуативных оценок и с научной точки зрения рассмотреть взгляды и отношения людей к своему историческому прошлому как устойчивую совокупность ориентаций, составляющих потенциал культурных ресурсов, которыми может располагать государство для их включения в реализацию политических решений различного уровня. Применимость данного подхода и совместимость вышеозначенных понятий определяется тем, что в своем первоначальном определении политическая культура представлялась своими создателями именно как совокупность «политических ориентаций по отношению к политической системе и ее различным частям…» (Алмонд, Верба, 2014: 28), что, по сути, сводило ее к сфере сознания. Следовательно, включение исторического сознания в содержание политической культуры совсем не противоречит их общим сущностным, субъективно-психическим основаниям, а, напротив, расширяет возможности для понимания содержания политико-культурных традиций конкретного общества в их исторической преемственности.
При этом ядро политической культуры составляют ориентации относительно самой политической системы, получающие выражение посредством чувства патриотизма, национально-государственной идентичности, формирование которых в значительной степени обусловлено отношением народа к своей истории. Ведь именно память о героических событиях и ярких достижениях выдающихся деятелей в любом государстве становится источником укрепления национальной гордости и гражданского самосознания, а «воспоминания о бесславных войнах, социальных невзгодах, репрессиях», напротив, вызывают у общества отчужденное отношение (Буганов, 2018: 52).
Преломление проблемы исторического сознания в формат политико-культурного исследования позволяет отчетливо обозначить границы между образами прошлого, закрепленными в «народных образах» в форме культурных генотипов и социальной памяти (которые и являются объектом осмысления в данной работе), и процессами формирования представлений об историческом прошлом у граждан как результатом профессионального «написания», или воссоздания, истории (Шнирельман, 2018: 15). Последнее представляет собой отдельную серьезную проблему, требующую детального рассмотрения, особенно в отношении тех политических систем, которые стоят на пути трансформаций, смены политических курсов и поиска соответствующих идеологем. Безусловно, формирование представлений о прошлом может осуществляться на основе генетического наследия исторической памяти народа, а также смещать акценты в трактовках исторических событий в соответствии с иными целями политических элит. Но в любом случае идеологемы, выстраиваемые вне исторических традиций народа, даже если они отражают ситуативные массовые настроения, потребуют от их разработчиков наибольших усилий для их внедрения и не гарантируют ожидаемой эффективности.
Как отмечают современные исследователи, история и историческая память общества действительно вплетаются в очень «сложную ткань национального и культурного самосознания» (Jones, 1994: 151), что «превращает историческую реальность в культурную конструкцию» (Шни-рельман, 2018: 16). Естественно, историческое сознание общества по своей природе не является статичным и неизменным явлением, оно может подвергаться определённым переменам, вызванными различными текущими жизненными факторами. Однако мы говорим не об изменчивых, а именно о генетических структурах исторического сознания, которые образуют его устойчивое ядро и формируют определенную матрицу, закладывающую «идеологические» запросы общества и его субъектов по отношению к политическому развитию системы.
Применительно к нынешней России сложность выделения подобных константных элементов в отношении исторического сознания особенно очевидна, поскольку за время постсоветской эпохи историческое прошлое страны стало сферой глубоких разногласий, а оценки некоторых его событий и явлений в риторике политического истеблишмента, СМИ и школьных учебниках страны неоднократно меняли свои векторы. Это не могло не отразиться на формировании представлений общества о собственной истории, сделав их нестабильными. Однако устойчивая конфигурация в восприятии исторического прошлого у российского общества определенно тоже существует. Иначе, как объясняется, например, то, что несмотря на смену политических курсов, социологические исследования, проводившиеся в течение последних 30 лет, касающиеся изучения образов прошлого у российских граждан, неизменно свидетельствовали о сохранении фокуса симпатий населения страны преимущественно на периоде правления Петра I. В частности, по данным одного из опросов института социологии РАН, в 1995 г. личностью и делами Петра Великого гордились свыше 55 % россиян. Подобные исторические ориентации демонстрировалась гражданами нашей страны и в 2007 г. (Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты …, 2007). Да и сегодня, согласно результатам исследования ВЦИОМ, посвященного 350-летию со дня рождения российского императора (2022 г.), петровское время остается одним из привлекательных периодов для членов нашего общества: более 90 % опрошенных продемонстрировали свою уверенность в том, что Петр I сыграл положительную роль в истории России. Значение периода его правления раскрывалось в опросе нашими современниками прежде всего через процессы укрепления могущества России: возрождение армии и флота (36 %), развитие сотрудничества с Европой (13 %), основание города на Неве (9 %), а также укрепление государственной власти и рост авторитета Российской империи на международной арене 1.
Поэтому очевидно, что отношение россиян к политической системе России периода Петра Великого во время разных политических курсов остается приблизительно одинаковым и в некотором отношении даже мифологическим. И хотя во время либерального поворота современной России, где правитель, конечно же, больше всего представлялся элитой тех лет западником и реформатором, общество, как совершенно точно определили исследователи ФНИСЦ РАН, подсознательно ощущало в нем прежде всего «наиболее полное выражение традиционного для народного менталитета представления о “настоящей”, “правильной” власти – жесткой и даже жестокой, но вместе с тем по-своему самоотверженной и, главное, способной предложить нации и общую цель, и “общее дело”, которое правитель обязательно должен делать своими собственными руками и как бы рядом со всеми» (Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты …, 2007).
Обращаясь к анализу исторического сознания и включая его в структуру политико-культурных оснований политической системы, нельзя не учитывать сложность и неоднозначность существующих в отношении данного понятия толкований и трактовок. Совершенно объективными представляются в своем выводе Ю.Ю. Кочетова и Н.С. Тимченко, указывая, что, несмотря на повсеместное применение термина «историческое сознание», методологическое единообразие понимания его содержания отсутствует (Кочетова, Тимченко, 2020: 52). В то же время внимание к этому феномену остается довольно стойким как со стороны историков и философов, осмысливающих исторический процесс человечества, так и со стороны исследователей в области политической науки и социологии, занимающихся вопросами реального и будущего развития общества. Этот интерес фактически и становится главным источником указанной методологической неопределенности, порождая активное стремление со стороны представителей различных дисциплин к созданию конкретных трактовок, соответствующих объектно-предметному полю их исследования.
Появление теоретического толкования понятия «историческое сознание» в отечественной науке восходит к одной из ранних работ известного социолога Ю.А. Левады «Историческое сознание и научный метод» (Левада, 1969). В данном труде фактически были заложены традиции изучения исторического сознания как формы сознания общественного, объектом отражения в котором выступают определенные моменты прошлых состояний страны, в том числе ее политической системы. «В каждую эпоху, - писал ученый, - историческое сознание представляет собой определенную систему взаимодействия “практических” и “теоретических” форм социальной памяти, народных приданий, мифологических представлений», а также научных знаний об истории» (Левада, 1969: 191). Соответственно, структура исторического сознания очерчивалась исследователем очень конкретно: как совокупность форм и способов отражения прошлого, а именно – «сознательного» и «бессознательного», «теоретического» и «практического», «научного» и «мифологического». Можно сказать, что одним из блоков исторического сознания здесь выступает научное (или профессионально созданное) знание об истории, а другой блок связан непосредственно с обыденным восприятием в обществе своего исторического прошлого, что в рамках современного социологического знания раскрывается через понятие «массовое сознание».
При этом, конечно, само массовое сознание включает в себя не только устойчивые, генетические структуры, составляющие его ядро, но также и идеологические основы, отражающие запросы реального исторического и политического процесса, которые проявляются в его динамичных формах. Однако при любых продвигаемых властью идеологемах массовый уровень исторического сознания , выраженный в позициях, установках, стереотипах и представлениях конкретных людей, непосредственно и несет в себе генетическую связь как с общей, так и с политической культурой нации, выступая вместе с тем одним из ее содержательных элементов. По мнению Л.П. Репиной, советский историк М.А. Барг, глубоко исследовавший проблему исторического сознания, недаром называл его способом «измерения типа культуры» (Репина, 2015: 7).
Продолжателем трактовки исторического сознания как формы общественного сознания стал Ж.Т. Тощенко, определивший данный феномен как «совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии…», а также «знания, понимание и отношение людей к историческому прошлому, его взаимосвязям с реалиями сегодняшнего дня и возможному отражению в будущем» (Тощенко, 2000). Важно, что в этой дефиниции не только точно схвачена суть и формы проявления исторического сознания в отражении событий прошлого, но также указаны его возможности в отношении измерения настоящего и будущего. Практически здесь показывается его потенциальное влияние на формирование образов (сознательных и бессознательных), определяющих перспективное развитие политической системы.
Однако, возвращаясь к концепции исторического сознания Ю.А. Левады, следует обратить внимание на то, что ученый рассматривал данную форму общественного сознания в качестве элемента «социальной памяти» общества. Последнюю же он в свою очередь разделял на «ко- роткую», или «оперативную», память, охватывающую непосредственное прошлое и обеспечивающую сложившийся тип общественных отношений, и на «опосредованную, долговременную», архивирующую в себе то прошлое, которое уже не может воспроизводиться, отношения которого обусловлены иными факторами (Левада, 1969: 192), прежде всего культурой общества. При этом выделение различных уровней «протяженности» памяти, на каждом из которых она имеет свои особенности и работает по-разному, приводит исследователя к тезису о наличии «определенного разнообразия форм исторического сознания» (Левада, 1969: 193).
Для «оперативной» социальной памяти и соответствующей ей формы исторического сознания характерны практические формы хранения информации, которые аналогичны накоплению практических навыков и привычек и обслуживают текущие социальные потребности общества. Что же касается формы закрепления в социальной памяти отдаленного прошлого, то здесь, по мнению Ю.А. Левады, «изменяются сами функции исторического сознания: либо оно выступает как осознание развития общества во времени, либо как противопоставление “нынешнего” состояния “прошлому”. И в данном отношении историческое сознание выражается в форме сознания мифологического, являющегося способом “воспроизведения прошлого”, который служит “восполнению” действительности, создавая картины мифологического времени (например, “золотого века”)» (Левада, 1969: 192).
Мифологический тип исторического сознания, по сути, воспроизводит систему исторически сложившихся образов конкретного народа, в которых заключается именно его коллективная память, хранящая в себе социально-политический опыт его далекого прошлого. Тем самым оно становится, по словам известного румынского философа и культуролога М. Элиаде, частью «чрезвычайно сложных реальностей культуры» общества, выступая неким хранилищем истины и представляя собой реальность, которая имеет отношение не столько даже к конкретному времени, сколько к вечности (Элиаде, 2010: 15). При этом функция мифологического сознания реализуется посредством подчинения «настоящего стандартам прошлого» и включения «исторического материала» (Левада, 1969: 198) в восприятие текущих состояний политической системы. Устойчивость системы мифологических образов, которые наполняют историческое сознание народа, объясняется тем, что они оказываются социально необходимыми и удовлетворяют потребности общества на разных этапах его исторического развития, на бессознательном уровне санкционируют определённые типы политических отношений.
В свое время русский философ Н.А. Бердяев отмечал, что в российском обществе с давних времен присутствовало осознание того, что наша страна «предназначена к чему-то великому, что Россия – особенная страна…» И соответственно вся «русская национальная мысль питалась чувством богоизбранности и богоносности России» (Бердяев, 2014: 14). В этом отношении резкое повышение за последнее десятилетие среди россиян «спроса на державность», хотя и является в определенной степени реакцией на международную ситуацию, но прежде всего выступает в качестве доминирующей политико-культурной константы общества. Как отмечают исследователи ИС РАН, российский исторический опыт самодержавия, по крайней мере, охватывающий пять столетий (от рождения идеологемы «Москва – Третий Рим») сформировал в культуре россиян очень сильный имперский комплекс, который определяет направленность их исторического сознания (Российское общество и вызовы времени …, 2017: 109). Отсюда и курс политической системы на поддержание в обществе запросов на ценности патриотизма, государственной мощи, державничества очень органично вписывается в политико-культурные фреймы россиян, подкрепляя их историческое самовосприятие. Хотя, конечно, нельзя не признать, что только ориентациями на прошлое проблемы настоящего, а тем более будущего, решить невозможно.
Пласты исторического сознания конкретного общества проявляют содержание политической культуры прежде всего посредством воспроизводства мифологических конструкций социальной памяти по отношению к событиям отдаленного прошлого. Образуемые в результате этого субъективные константы в свою очередь становятся некими интуитивными критериями оценки обществом верного или неверного в направленности развития политической системы. Они, по сути, создают фундамент, на котором основываются политические традиции общества, предопределяющие содержание исторических механизмов формирования политической культуры, сохранение преемственности в системе социально-политических связей и отношений, а также процессы функционирования и развития конкретного типа политической системы.
Так или иначе сущность коллективной исторической памяти заключается не только в закреплении и сохранении прошлого опыта, но и главным образом в последующем воспроизведении этого опыта, его практическом применении. Историческая память, как точно указал Ж.Т. Тощенко, выступает отражением исторического опыта народа и государства для возможного и потенциального «его использования в деятельности людей или для возвращения его влияния в сферу обще- ственного сознания» (Тощенко, 2000). При этом основным механизмом воспроизводства и сохранения политического опыта народа в содержании исторического сознания остается процесс политико-культурной преемственности, обеспечивающий жизнеспособность архетипов исторического сознания общества и определяющий границы его возможных изменений, от которых зависит и сам ход развития политической системы. В данном отношении все разговоры о значимости определенных исторических событий для общества и избирательности исторического знания имеют смысл только в контексте понимания генетической матрицы политической культуры конкретного общества и его политико-культурных традиций. Именно политико-культурные основания позволяют превращать исторические ориентации в ценности текущей политики государства.
В качестве заключения отметим, что в наши дни, в том числе в связи с проведением спецо-перации на Украине, искажение истории для россиян проявляет себя особенно остро. Оно представляет собой не просто отстраненную ложь, а нарушение культурных основ исторической правды народа. Так, согласно результатам опроса ВЦИОМ (сентябрь, 2022 г.)1, каждый второй россиянин (53 %) полагает, что в стране присутствуют случаи «злонамеренного» искажения российской истории, которые связаны с ослаблением России во внутренней и внешней политике, разобщением гражданского общества, т.е. фактически со снижением ее державнического потенциала, на котором как раз и строится нынешняя гармония социальных запросов и политического курса страны. Поэтому желание российских граждан знать правду истории сейчас стоит рассматривать как важную часть борьбы за сохранение своих традиций, культуры и государственной идентичности.
Список литературы Историческое сознание общества как элемент политической культуры
- Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М., 2014. 500 с.
- Бердяев Н.А. Русский народ. Богоносец или хам? М., 2014. 240 с.
- Буганов А.В. Русские начала XXI в. Историческая память и этнокультурная идентичность // Историческая память и российская идентичность. М., 2018. С. 52-68.
- Кочетова Ю.Ю., Тимченко Н.С. Проблема исторического сознания: методологические подходы // Знание. Понимание. Умение. 2020. № 4. С. 52-58. https://doi.Org/10.17805/zpu.2020.4.4.
- Левада Ю.А. Историческое сознание и научный метод // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 186-224.
- Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты / М.А. Горшков [и др.] // Информационно-аналитический бюллетень института социологии Российской академии наук. 2007. № 4. С. 4-95.
- Репина Л.П. Память истории и историческое сознание в фокусе категориального анализа М.А. Барга // Харювський iсторioграфiчний збЧрник. 2015. № 14. С. 5-16.
- Российское общество и вызовы времени: в 5 кн. / под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова. М., 2017. Книга 5. 424 с.
- Тощенко Ж.Т. Историческое сознание и историческая память. Анализ современного состояния // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 3-14.
- Шнирельман В.А. Социальная память - вопросы теории // Историческая память и российская идентичность. М., 2018. С. 12-34.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2010. 251 с.
- Jones S. Old Ghosts and New Chains: Ethnicity and Memory in the Georgian Republic // Memory, History and Opposition under State Socialism. Santa Fe, 1994. P. 149-165.