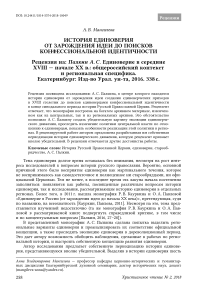История единоверия от зарождения идеи до поисков конфессиональной идентичности. Рецензия на: Палкин А. С. Единоверие в середине XVIII — начале ХХ в.: общероссийский контекст и региональная специфика. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 338 с.
Автор: А. В. Мангилева
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Рецензии
Статья в выпуске: 2 (79), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рецензия посвящена исследованию А. С. Палкина, в центре которого находится история единоверия от зарождения идеи создания единоверческих приходов в XVIII столетии до поисков единоверцами конфессиональной идентичности в конце синодального периода истории Русской Православной Церкви. Рецензент отмечает, что монография построена на богатом архивном материале, извлеченном как из центральных, так и из региональных архивов. Это обстоятельство позволило А. С. Палкину создать убедительную картину эволюции единоверческого движения, проследить изменение политики центральной власти по отношению к единоверцам, показать особенности реализации этой политики в регионах. В рецензируемой работе автором предложена разработанная им собственная периодизация истории единоверческого движения, которую рецензент признает вполне убедительной. В рецензии отмечаются другие достоинства работы.
История Русской Православной Церкви, единоверие, старообрядчество, А. С. Палкин.
Короткий адрес: https://sciup.org/140223402
IDR: 140223402 | DOI: 10.24411/1814-5574-2018-10049
Текст научной статьи История единоверия от зарождения идеи до поисков конфессиональной идентичности. Рецензия на: Палкин А. С. Единоверие в середине XVIII — начале ХХ в.: общероссийский контекст и региональная специфика. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. 338 с.
Тема единоверия долгое время оставалась без внимания, несмотря на рост интереса исследователей к вопросам истории русского православия. Вероятно, основной причиной этого было восприятие единоверия как маргинального течения, которое не воспринималось как самодостаточное и полноценное ни старообрядцами, ни официальной Церковью. Тем не менее, в последнее время эта лакуна начала постепенно заполняться: появляются как работы, посвященные различным вопросам истории единоверия, так и исследования, рассматривающие историю единоверия в отдельных регионах. Более того, в 2011 г. вышла монография Р. В. Кауркина и О. А. Павловой «Единоверие в России (от зарождения идеи до начала ХХ века)», претендующая, судя по названию, на всеохватность [Кауркин, Павлова, 2011]. Несмотря на это, тема представляется изученной недостаточно (та же монография Р. В. Кауркина и О. А. Павловой в рассматриваемой книге подвергнута справедливой критике, в том числе и по концептуальным вопросам [Палкин, 2016, 27–28]).
В представленной монографии А. С. Палкина сделана попытка выделить региональные варианты единоверия и проанализировать их соответствие официальной концепции, а также проследить эволюцию единоверия в дореволюционный период. Это дает автору возможность обобщить наблюдения, сделанные в работах по региональной истории, и выстроить собственную концепцию развития единоверия.
Автор исследования предлагает собственную периодизацию истории единоверия, представляющуюся вполне убедительной. Выделив в истории единоверия шесть
периодов [Палкин, 2016, 7–8], в рецензируемой монографии А. С. Палкин рассматривает только первые три: от начала формирования концепции компромисса старообрядчества с государством в 50-х годах XVIII в. до начала ХХ в., когда изменение конфессиональной политики государства поставило как перед единоверием, так и перед Русской Православной Церковью в целом проблему поиска выхода из сложившегося положения.
В предложенном автором историографическом обзоре, в целом добротном, несколько настораживает отсутствие работ, посвященных митрополиту Платону (Левшину), хотя в них должна была даваться оценка как «Пунктов», ставших основным документом, институализирующим единоверие, так и единоверию как явлению в церковной жизни.
Повествование строится по принципу перехода от характеристики конфессиональной политики государства в тот или иной период к рассмотрению взглядов на единоверие представителей официальной Церкви, старообрядцев и самих единоверцев и, наконец, к характеристике ситуации на местах. Подобный подход позволяет выявить логику в действиях единоверческих общин, оценить степень их активности в том или ином регионе страны. Следует отметить скрупулезность автора монографии при восстановлении хода событий, связанных с поисками компромисса между старообрядчеством и официальной Церковью, а также в период распространения единоверия. Выделены регионы, в которых единоверие получило наибольшее распространение, проанализирована конкретная ситуация в каждом из них. Выявлены причины, по которым старообрядцы шли на сближение с официальной Церковью и на принятие единоверия, и причины, по которым государство и Церковь были вынуждены идти на компромисс с единоверцами и старообрядцами.
В первой главе «Формирование единоверия (XVIII — начало XIX в.) А. С. Палкин анализирует предложения, которые поступали от старообрядцев, стремившихся легализовать свое положение, и показывает, как эти предложения видоизменялись, пройдя через редакцию церковных деятелей. В результате, по его мнению, победу одержала позиция официальной Церкви, которая не устраивала старообрядцев. Государство, в свою очередь, не проявляло особого интереса к предложенному Церковью варианту («через единоверие в православие»). В результате на первом этапе своего существования единоверие не получило широкого распространения.
Вторая глава «Единоверцы поневоле: распространение единоверия с конца 1820-х по 1850-е гг.» посвящена периоду насильственного распространения единоверия. На основании многочисленных фактов автор доказывает, что на самом деле старообрядцы принимали единоверие вынужденно и не сочувствовали ему. Более того, ранние единоверческие общины, возникшие в предшествующий период, обвинялись «единоверцами поневоле» в конформизме, а сами они, в свою очередь, могли доносить на «собратьев», которые под маской единоверия старались сохранить старообрядческие традиции. Интересным представляется сделанный автором монографии анализ статистических данных по единоверцам. Общепризнано, что эта статистика неверна, но в данном случае автор обращает внимание не только на «приписки» церковных органов, но и на демонстративное непосещение единоверцами богослужений и игнорирование церковных таинств, уход прихожан из отданных единоверцам молитвенных зданий, отказы принимать клириков и на вполне вероятные взятки духовенству за необходимые записи в церковных документах. Автор показывает также, что сами церковные и государственные органы вынуждены были отходить от «Правил» митрополита Платона, когда соображения выгоды одерживали верх над принципами. Именно государственный интерес позволял единоверцам различных регионов приспосабливать государственное и церковное законодательство под собственные требования. В целом автор приходит к выводу об отсутствии в стране по-настоящему единой единоверческой организации. Богатое купечество, казачество смогли отстоять свои интересы и продолжать вести достаточно самостоятельную религиозную жизнь, лишь прикрываясь «вывеской» единоверия, тогда как большинство общин единоверцев испытывало всё возрастающее давление со стороны Церкви и государства. «Зачастую различия между единоверцами были едва ли не сильнее, чем различия между православными и старообрядцами». В связи с этим у единоверцев «не сформировалось чувство идентичности, осознание себя как особой религиозной и социальной группы» [Палкин, 2016, 223]. Но основную причину неудач единоверия А. С. Палкин видит в том, что «единоверие попросту было не нужно староверам. Оно нарушало создаваемую десятилетиями и веками систему взаимоотношений внутри старообрядческих обществ: создавало угрозу для религиозного, экономического, социального, семейного укладов „древлеправославных хри-стиан“. Единоверие, разрушая традиционные институты, имело своей целью встраивание старообрядцев в государственно-церковную систему. И если на взаимодействие с государством наименее радикальная часть староверов могла пойти относительно безболезненно, то включение в структуру „никонианской“ Церкви практически всегда вызывало отторжение» [Палкин, 2016, 222]. Вполне логично поэтому, что единоверие нашло поддержку у сильных, влиятельных деятелей Русской Православной Церкви, но ни у одного столь же значимого лидера старообрядцев. Положение стало меняться лишь в следующем периоде, когда лидеры самих единоверцев, не признаваемых ни старообрядцами, ни православными, постараются не просто определить место единоверия в конфессиональной структуре страны, но и изменить его в лучшую сторону, доказав «полезность» единоверия с духовной точки зрения.
В третьей главе («Поиски конфессиональной идентичности в 1860-е — 1905 г.) автор рассматривает процессы, происходившие в единоверческой среде в период постепенного ослабления государственного давления на старообрядчество. С одной стороны, это приводит к оттоку из единоверия тех, кто был загнан в него насильно, с другой — появляются единоверческие деятели, готовые к реформированию единоверия с целью превращения его в полноценную конфессию. В связи с этим автор прослеживает эволюцию требований единоверцев от подчинения их государственным структурам до назначения самостоятельного единоверческого епископата в рамках Русской Православной Церкви. Интерес представляет замечание А. С. Палкина о том, что процесс самоидентификации единоверия совпал с внутренним кризисом в жизни Русской Православной Церкви, вызванным признанием государством свободы вероисповедания. Общие проблемы привели к тому, что Церковь стала внимательнее относиться к предложениям, поступавшим от единоверческой интеллектуальной верхушки, но процесс сближения был прерван революционными событиями.
В целом хочется отметить высокий уровень рецензируемой работы, закрывающей значительную лакуну в отечественной историографии, обобщающей накопленный опыт в исследовании истории единоверия в досоветский период. Автору удалось не только представить разные варианты осуществления разработанного в конце XVIII в. проекта инкорпорации старообрядцев в состав Русской Православной Церкви, достаточно убедительно доказать нежизнеспособность этого проекта, но и продемонстрировать, как из него прорастают новые идеи преодоления катастрофических для общества последствий раскола. Хочется подчеркнуть также хороший язык, корректность формулировок, правильное оформление научно-справочного аппарата, что в последнее время из правила все чаще превращается в исключение. Работа построена на обширном архивном материале, вводит в научный оборот большой круг новых источников, носит самостоятельный и целостный характер. Рекомендуется профессиональным историкам и всем интересующимся историей Русской Церкви.