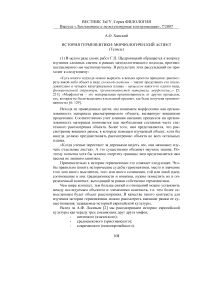История герменевтики: морфологический аспект (тезисы)
Автор: Ханский Александр Олегович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120437
IDR: 146120437
Текст статьи История герменевтики: морфологический аспект (тезисы)
Исходя из приведенных цитат, мы понимаем морфологию как организованность материала рассматриваемого объекта, вызванную внешними процессами. Соответственно учет влияния внешних процессов на организованность материала понимается как необходимая составная часть системного рассмотрения объекта. Более того, нам представляется, что рассмотрение внешних рамок, в которые помещен изучаемый объект, хотя бы иногда должно предшествовать рассмотрению объекта во всех остальных планах.
«Когда ученые перестают за деревьями видеть лес, они начинают изучать отдельные листья». А это существенно обедняет научное знание. Поэтому попытка хотя бы эскизно очертить границы леса представляется нам весьма не лишним занятием.
Применительно к истории герменевтики это означает следующее. Чтобы правильно понять исторические судьбы герменевтики, место и значение того или иного мыслителя, того или иного сочинения, той или иной идеи, соотношение в них традиционности и новизны, нужно поместить их в определенный контекст, выходящий за рамки собственно герменевтики.
Чем шире контекст, тем больше связей и отношений можно установить между исследуемым объектом и элементами контекста, т.е. тем более осмысленным будет объект рассмотрения. В качестве такого контекста для изучения истории герменевтики можно рассмотреть внешние рамки ее существования, задаваемые историей европейской культуры.
Вслед за А.Ф. Лосевым [2] мы рассматриваем историю европейской культуры как череду трех сменяющих друг друга мифов:
-
- античного (языческого);
-
- средневекового (христианского);
-
- современного (новоевропейского).
Под мифом здесь понимается совокупность общих подходов к осмыслению бытия, разделяемая большинством представителей эпохи.
При данном подходе к осмыслению истории в принципе отсутствует идея прогресса в какой бы то ни было форме. Эти мифы рядоположены. Между ними не может быть установлено отношений «лучше – хуже» (возможно лишь хронологическое «раньше – позже»).
Само содержание мифа предзадает основные характеристики герменевтики, развивавшейся в рамках соответствующего мифа.
-
(2) Проблемы понимания мира, человека, места человека в мире и среди других людей волновали человека во все времена. Всегда было важно знать, что нужно сделать с собой, чтобы стать человеком. Это высшие смыслы человеческого бытия, и как таковые, они всегда находились вне человека и никогда не могли быть для него легко доступными.
Поэтому в самом общем виде герменевтическую ситуацию можно представить следующим образом: есть человек и есть некий внешний по отношению к человеку герметично закрытый сосуд, в котором находится значимое для человека содержимое, существующее в идеальной форме; чтобы усвоить необходимое содержимое, человеку необходимо вскрыть (разгерметизировать) этот сосуд, совершив некие действия.
И здесь сразу же встают следующие вопросы:
-
- Что это за герметично закрытый сосуд?
-
- Какого рода содержимое хранится в нем?
-
- Зачем оно нужно человеку (в чем его значимость)?
-
- Какие действия нужно предпринять человеку, чтобы этот сосуд разгерметизировать?
-
(3) Античность является колыбелью европейской культуры, в которой зарождаются если не все, то многие ее современные феномены. Герменевтика также родом оттуда. Уже сама этимология слова герменевтика (от имени греческого бога Гермеса, посредника между миром живых и миром мертвых, между богами и людьми) указывает на место и время зарождения герменевтики.
Структура античного мифа такова, что основным его текстом является космос, мироздание. Поэтому и деятельность по пониманию изначально направляется именно на него. Среди понимаемых фрагментов мира можно указать полеты птиц, внутренности жертвенных животных, солнечные и лунные затмения, полеты комет, эпидемии, природные катаклизмы (целый ряд соответствующих примеров можно найти у Гомера). Именно в таком виде античные боги изъявляли свою волю; толкуя именно эти явления, люди могли уяснить для себя волю богов.
С распространением христианства в Европе появляется Священное Писание, сакральный текст, содержащий основные смыслы бытия. Вместе с христианством приходит и иудейская традиция толкования Ветхого Завета. Поэтому деятельность по пониманию обращается уже на вербальный текст. Сначала на текст Писания. Самые авторитетные тексты толкования Писания формируют Предание, которое также в свою очередь становится объектом понимания. Таким образом, понимание направляется на два типа вербальных текстов - сакральные (Писание) и авторские (Предание). Правда, Предание представляет собой особый авторский текст. Предание - это авторский текст, в котором личное автора, полностью вверившего себя Богу, снято. В то же время и космос как текст не сходит на нет. Так в семиотике Августина всякая вещь может указывать на любую другую вещь и при этом всегда указует на Бога, и только Бог не указует ни на что, Он есть цель, предельное означаемое (подробнее о семиотике Августина см.: [4: 27-52]).
С наступлением Нового Времени из мифа уходят и боги, и Бог. Соответственно утрачивают свою сакральность и свое мифологическое значение и космос, и Священное Писание. Но отношение к написанному слову (в силу логоцентричности всей европейской культуры) остается наиболее уважительным из всех видов человеческого творчества. Поэтому современный миф, находя свое воплощение в авторском творчестве, с наибольшей силой воплощается в авторской литературе с вершиной в европейском (в том числе и русском) романе; а деятельность по пониманию, соответственно, направляется в первую очередь на изящную словесность (также и на Библию, но уже не как сакральный, а как авторский текст).
-
(4) Современный (новоевропейский) миф, отказавшись от божественного начала и приняв прогрессистскую установку, оказался перед принципиально новой проблемой: что разгерметизировать? Прежде чем вскрывать сейф нужно хотя бы предполагать, что там хранятся некие ценности. А если сейф в лучшем случае оказывается пуст, а в худшем - является хранилищем разрушительных смыслов?
В рамках античного и средневекового мифов такого вопроса не было. Доброкачественность опредмеченных смыслов гарантировалась доброкачественностью авторов текстов. Это либо боги (космос), либо Бог (Писание), либо люди, чей авторитет подтверждается временем и традицией (Предание).
Но богам и Богу в новоевропейском мифе места нет, а прогрессистская установка (как неотъемлемая часть современного мифа) полностью девальвирует наследие прошлого. Если в рамках предшествующих мифов больше ценится старое, подвергшееся большему испытанию временем, вошедшее в традицию, то в современном мифе больше ценится новое в качестве более совершенного, а старое отвергается как устаревшее.
Таким образом, современный миф, утвердив в качестве хранилища смыслов авторские произведения, утратил ориентир, указывавший на источник доброкачественных смыслов, безупречно отвечавший двум предыдущим мифам (а это не менее двух тысячелетий) и тем самым принципиально усложнил герменевтическую деятельность.
В качестве одного из возможных выходов из сложившейся ситуации стало перемещение фокуса внимания с текстов на язык, которым эти тексты написаны, поскольку и язык и миф – это то, что разделяется многими, в то время, как авторские тексты (созданные в рамках современного мифа) могут разделяться только самими их авторами.
-
(5) Но прежде чем что-то понимать, чтобы то ни было разгерметизировать, нужно знать – что ищешь. Ибо, не зная искомого, можно просто пройти мимо него, не обратив на него никакого внимания.
Каждый миф имеет свой набор ценностей, идеалов, высших смыслов, так или иначе опредмеченных в той или иной форме. Рационально, дискур-сивно (вербально) реестр этих смыслов формулируется философами (жрецами, богословами). При этом каждый миф требует своего языка (философского языка; понятийного, категориального аппарата) описания этих ценностей.
Язык мифа всякий раз оказывается настолько сложным, что задача его формулирования не только занимает всю эпоху мифа, но даже переходит в следующие эпохи. И получается так, что сформулировав свой язык, проартикулировав себя, миф погружается в пучину небытия, оставляя новому мифу богатый развитой язык, который уже ничего не описывает. А новый миф, явившись миру, не имеет ничего другого для своей рациональной артикуляции кроме языка ушедшего мифа. И начинается долгая кропотливая работа по изживанию из наличного языка элементов старого мифа и наполнения его элементами нового мифа. В результате такой операции замещения формулируется новый язык, адекватный своему мифу. Но как только это происходит, очередной миф погружается в бездну небытия, оставляя после себя свой непригодный для нового мифа язык.
Так философское осмысление античного мифа, имеющее долгую традицию, нашло свое завершение в платонизме – неоплатонизме Академии, завершившей свою историю в эпоху уже следующего мифа (529 г. н.э.).
Христианский миф продолжает формулировать свой язык по сей день, когда уже следующий за ним новоевропейский миф готовится к уходу с исторической арены.
Современный миф, придя на смену христианскому, не мог принять его язык даже на начальной фазе и в качестве исходного языка взял язык, оставшийся в наследство от языческого мифа, развив его до совершенства в немецкой классической философии. Но еще был жив Шеллинг (1775 – 1854), когда в 1848 г. Маркс (в недавнем прошлом – младогегельянец) и Энгельс в «Манифесте коммунистической партии» написали ставшие известными всему миру слова: «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма», известив мир о зарождении нового мифа. Дискурсивно описав себя в немецкой классической философии, новоевропейский миф начал свое погружение в небытие.
И может быть именно тот факт, что новый миф, провозглашенный классиками марксизма, во многом сохранил язык своего предшественника, явилось причиной временн о й отсрочки его практического утверждения.
Таким образом, каждый миф формирует и формулирует свой набор ценностей, подлежащих усвоению человеком в ходе его герменевтических практик. При этом не должен смущать тот факт, что ценности разных мифов именуются одним и тем же словом естественного языка. За одним и тем же словом естественного языка скрывается существенно разное содержание, вырабатываемое в рамках различных мифов. Так история формирования языка христианского мифа подробно прослежена в работе В.М. Лурье [3].
-
(6) С течением времени, переходя из одного мифа в другой, меняется и сам человек, а точнее человеческое в человеке (биологическое изменилось в нем за две с половиной тысячи лет незначительно). А вместе с человеком менялись и представления о том, что он должен делать, чтобы быть (становиться, оставаться) человеком, его жизненные цели, в том числе и цели герменевтической деятельности.
В античном мифе предназначение человека состояло в том, чтобы преумножить (или как минимум не уменьшить) гармонию и уменьшить (или как минимум не увеличить) хаотичность космоса. Поэтому и вглядывался античный человек в окружавший его космос, пытаясь разглядеть, к а к космос реагирует на его присутствие в мире, какие знаки посылают человеку обитатели Олимпа, чтобы максимально гармонизировать свои отношения с миром.
В Средние века человеку были даны Ветхий и Новый заветы, чтобы он смог найти путь к Богу и спасти свою душу, обретя бессмертие в единении с Ним. Поэтому состояться как человек он мог лишь согласуя свой личный жизненный путь с теми высшими смыслами бытия, которые содержит в себе Писание.
В обоих этих мифах человек вписывал себя в мироздание, подчиняя себя высшим силам, смиряя себя и ограничивая свой произвол. При этом заведомо признавалась ограниченность человеческого познания, его неполнота и неспособность к самостоятельному (без помощи свыше) постижению чего бы то ни было.
Совсем иную ситуацию мы имеем в современном мифе. Теперь человек не вписывает себя в мир, а подчиняет мир себе: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник». Торжество человека над миром стало возможным после признания неограниченности человеческого разума и утверждения принципиальной познаваемости мира без каких-либо изъятий. Постижение смыслов бытия служит теперь утверждению господства человека, в том числе и над другими людьми. Понимание становится одним из инструментов такого господства, причем наибольшей силой обладает понимание не какого-либо текста, но языка создания текстов. Полу- чив доступ к его тайне, человек получает инструмент абсолютного превосходства над другими людьми, поскольку появляется возможность создания любых текстов, начиная с детских сказок (в которых народное творчество все стремительнее заменяется авторскими произведениями), с наперед заданным результатом воздействия на личность реципиента.
-
(7) Поскольку меняются и хранилище значимых смыслов, и его содержимое, и человек, и то, зачем ему все это надо, меняются и те процедуры (техники), при помощи которых человек осуществлял разгерметизацию.
В Древнем мире человек прибегал к помощи посвященных жрецов. Эта техника сохранилась и в Средние века, когда человек обращался к священникам и богословам. Но теперь человек мог уже самостоятельно проходить хотя бы первые ступени понимания Священного Писания. И самой главной техникой понимания становится вера в Бога.
В рамках новоевропейского мифа обращение за помощью к другим сходит на нет, поскольку понимание – это инструмент господства над другими людьми. Даже в рамках христианства (протестантизм) упраздняется посредник между человеком и Богом в лице священнослужителя. А самостоятельное понимание в духе времени становится рациональным с использованием различных формализованных процедур.
-
(8) Таким образом, история герменевтики, будучи помещенной в большой контекст истории европейской культуры, предстает не как некая сплошная, непрерывная традиция развертывающегося понимания, а как череда замкнутых в себе образований с существенно различными составляющими герменевтической ситуации, объединенными лишь самой общей схемой этой ситуации (человек разгерметизирует внешний по отношению к себе сосуд со значимым для него содержанием).
Невозможно себе представить ситуацию, когда среди примерно 120 техник понимания, выделенных Г.И. Богиным, присутствовала бы техника с названием «постом и молитвой»; как невозможно себе представить ситуацию, когда весь потенциал выделенных техник был бы направлен на токование солнечных затмений или кофейной гущи. Так же трудно представить себе и то, чтобы Блаженный Августин задумался, а стоит ли ему направлять свою рефлексию на библейские тексты, и не поискать ли ему более надежный источник высших смыслов.
-
(9) Современный (новоевропейский) миф уже давно начал свое погружение в небытие. Какая эпоха наступает ныне (очередного нового мифа или периода перехода от одного мифа к другому наподобие эпохи Возрождения как перехода от Средних веков к Новому времени), сегодня вряд ли кто может сказать. Но, так или иначе, на стыке XX и XXI вв. все мы стали свидетелями еще до конца не осознанных качественных изменений в жизни общества, связанных с развитием информационных технологий и проникновением части людей в тайны языка.
Появился феномен «навязанной коммуникации» [1]. С развитием и совершенствованием средств массовой коммуникации и разработкой манипуляционных технологий на человека стал выплескиваться мощный поток отформатированной информации, уклониться от которой человек не в состоянии, как не в состоянии он этот поток полностью отрефлектировать. Это просто выше его человеческих сил. В результате внутренний мир человека начинает все больше заполняться не просто мусором, а опасными для существования личности смыслами. В душе человека уже нет места ни звездному небу, ни Десяти заповедям, ни судьбам Гринева, Безухова или Мелехова. А значит, нет места и всем техникам понимания вместе взятым.
Господство новоевропейского человека над миром достигло своей вершины – он покорил информацию. Покорить что-либо значит сделать это покорным, а степень покорности определяется у современного человека степенью комфортности (т.е. легкости, необременительности) в общении с покоренным и покорным. Человек, покорив информацию, сделал ее покорной: теперь не надо прилагать усилий для ее распредмечивания и усвоения, она сама отдается человеку с рекламных плакатов, газетных полос, экранов телевизоров и дисплеев. Так, став господином информации, человек стал ее рабом и начал утрачивать человеческий облик.
Таким образом, чтобы сегодня человеку быть человеком, нужно встать в принципиально иную герменевтическую позицию. В противоположность всем предшествующим эпохам нужно научиться не разгерметизировать внешний сосуд и присваивать себе его содержимое, а загерметизировать свой внутренний мир от потока агрессивной информационной среды. Без этого человека не станет. Как это делать – должен ответить новый этап развития герменевтики. Это будет уже совсем другая герменевтика, без которой вся старая герменевтика просто обессмысливается. При этом новая герменевтика вынуждена будет начать с выработки своего языка, поскольку язык старой герменевтики для этого не пригоден, он создавался для решения принципиально иных задач.
В самом начале нового века ушли из жизни такие корифеи старой герменевтики, как Нина Олеговна Гучинская, Георгий Исаевич Богин (оба в 2001 г.) и Ганс-Георг Гадамер (в 2002 г.). Всех их можно по праву назвать совершителями старой герменевтики, они дали ей завершение и придали ей совершенство. Но именно потому, что старая герменевтика совершилась, пришло время торить новую тропу в ее истории. Простое повторение пройденного, эпигонство могут иметь трагические последствия для судеб мира и человека. XXI век должен дать начало принципиально новой герменевтике.
Герменевтика умерла! Да здравствует герменевтика!