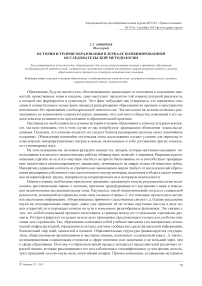История и теория образования в зеркале комбинированной исследовательской методологии
Автор: Новиков Сергей Геннадьевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Человек культуры: новый смыслы образования (посвящается 85-летию академика РАО Е.В. Бондаревской)
Статья в выпуске: 7 (41), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются возможности, открываемые для осмысления развития теории и практики образования комбинированной методологией, составными элементами которой выступают социокультурный подход к анализу образовательного процесса и культурно-историческая генетика.
История и теория образования, комбинированная методология, культурно-историческая генетика, социокультурный подход, ментальность
Короткий адрес: https://sciup.org/14822382
IDR: 14822382
Текст научной статьи История и теория образования в зеркале комбинированной исследовательской методологии
Настаивая на необходимости изучения истории и теории образования в социокультурном контексте, мы ясно понимаем, что в этом случае от нас потребуется радикальное обновление языка исследования. Полагаем, что ученому-педагогу не следует бояться расширения системы своих понятийных координат. Обновленная понятийно-логическая сетка исследования создаст условия для перехода от классических интерпретационных матриц к новым, включающим в себя достижения других социально-гуманитарных наук.
На этом основании мы не можем разделить мнение тех авторов, которые негативно оценивают использование в психолого-педагогических работах общенаучных понятий и терминов. Выразимся резче: опасения утратить из-за этого «научную чистоту» не просто беспочвенны, но и способствуют превращению педагогики в самоизолированную дисциплину, почивающую на лаврах только ей известных побед. Императив удержания контакта со стремительно меняющимся миром требует от исследователей образования расширения собственного методологического инструментария, включения в область своего внимания историософских трудов, материалов культурантропологов и историков ментальности.
Иными словами, необходимо преодолеть традицию, заложенную в науке редукционистским мышлением, расчленяющим знание о человеке, причинах трансформации его внутреннего мира и поведения на автономные исследовательские зоны. Разумеется, такой «анатомический» подход к социальной реальности, возникший исторически, имел свои сильные стороны. С его помощью происходило активное накопление информации, обнаруживались причинно-следственные связи и т.д. Однако разделение науки на «изолированные квартиры» давно уже приносит ей не только ощутимые выгоды в виде новых открытий, но и порождает помехи на пути к пониманию разнообразных феноменов. Это связано с тем, что любой социальный организм многомерен, а границы между его отдельными «органами» размыты. И структурируется он далеко не всегда по принципам, предложенным ученым для удобства описания этого организма. Так, образование охватывает собой учебные заведения с их материально-технической инфраструктурой, учреждения культуры, научное сообщество, средства массовой информации, бесконечный мир идей, ценностей и идеалов. Образовательные структуры финансируются государством, общественными организациями и частными лицами, выполняют «социальный заказ». А значит, целенаправленная социализация относится к сфере политики или экономики в не меньшей мере, чем к сфере образования. Поэтому-то образовательный процесс интересует представителей различных отраслей знания, которые рассматривают его под собственным «специфическим» углом зрения, используют присущий «своей» науке язык, понятийный аппарат. Причем концепции, создаваемые историком или социологом, педагогом или психологом, как правило, самодостаточны, так как «изнутри» отдельной науки они выглядят законченными и непротиворечивыми. Но если взглянуть на них с позиции другой гуманитарной дисциплины, картина будет выглядеть не столь радужной.
Дабы избежать односторонности, неизбежно продуцируемой редукционизмом, мы и призываем прибегнуть к междисциплинарному синтезу целостной модели развития образования на спирали социокультурной эволюции. Этот синтез позволяет исследователю истории, теории и практики образования перестать быть заложником прежнего жесткого разграничения гуманитарной науки на независимые «цехи», делает возможным привести накопленные многими поколениями исследователей знания в систему, позволяющую понять все метаморфозы образования в прошлом и настоящем.
Конечно, могут высказываться опасения относительно того, что предлагаемая нами исследовательская стратегия приведет к размыванию объекта и предмета педагогической науки. На это заметим следующее. Во-первых, социокультурные изыскания ученого-педагога будут носить прикладной характер, осуществляться применительно к решению образовательных задач. И, во-вторых, они будут направлены на определенный аспект изменений социокультурной среды, а именно: на выделение корреляции между трансформациями внешней реальности и процессами в сфере обучения и воспитания.
Полагаем, что комбинированная методология исследования образования как целостного феномена должна включать, как минимум, два структурных элемента: социокультурный подход к анализу образовательного процесса и культурно-историческую генетику .
Поясним собственную позицию. Дело в том, что, оставляя без внимания ту социокультурную среду, в которой протекает образовательный процесс, ученый рискует допустить серьезный просчет. Ведь тогда объект педагогических усилий оказывается как бы в социокультурном вакууме, в неком стерильном пространстве, свободном от влияния воспроизводимых веками культурных норм, образцов, стереотипов. У исследователя создается ошибочное впечатление, что результаты педагогической деятельности зависят только от уровня педагогического мастерства, «изощренности» педагогических технологий, с одной стороны, и от степени «педагогической запущенности» ребенка, с другой. Чего греха таить, именно в таком ключе чаще всего идет в наших школах анализ причин успехов или неудач конкретных действий конкретного педагога. А между тем, корни многих феноменов педагогической практики уходят гораздо глубже – в социокультурную почву, на ниве которой вырастают все «педагогические побеги».
Роль социокультурного фактора в формировании целеполагания и ценностных ориентаций института образования трудно переоценить. Ведь культура, конституирующая социум в качестве уникального и воспроизводящегося организма, инаковости , представляет собой искусственную, над биологическую программу жизнедеятельности, вытесняющую природный, генетический механизм передачи моделей человеческого поведения. Именно она концентрирует, хранит и транслирует жизненные ориентиры, идеалы. И потому можно смело утверждать, что все «тайны человеческой деятельности запечатлены в содержании культуры» [1. т.1, с. 54].
Вот почему оба компонента образования, обе разнородные его субстанции – образовательно-воспитательные структуры, обладающие известной инерционностью, и люди, отличающиеся способностью осуществлять самостоятельный выбор поведения, – являются порождением сфокусированных в культуре программ воспроизводства социума.
Однако для того чтобы понять как формируются эти программы, в чем заключается их воздействие на институт образования необходимо не просто зафиксировать существующую социокультурную среду, но и проникнуть на максимально возможную глубину в прошлое интересующего нас образовательного пространства. Для реализации данной исследовательской задачи нам понадобиться еще одна «интеллектуальная отмычка» – культурно-генетический метод . Именно он делает возможным ответ на вопрос о том, почему одни педагогические инструменты, прекрасно показавшие себя в конкретной социокультурной среде, не демонстрируют подобного эффекта в другом, казалось бы, сходном сообществе.
Культурно-историческая генетика позволяет включить в число долгосрочных и фундаментальных факторов образовательного процесса такой феномен как «культурный генотип». Он являет собой базовые ценности и идеалы, разделяемые членами общества независимо от их социального положения и транслируемые из века в век, невзирая на изменение политического режима, смену идеологических лозунгов и пр.
Подчеркнем, что сложившиеся базовые ценности и идеалы (К.М. Кантор называл их ядром культуры ) являются отнюдь не продуктом ситуативной реакции общественного и индивидуального сознания на окружающую реальность, а результатом отбора социумом удачных ответов на вопросы, ставившиеся перед ним внешней средой (природой и климатом, геополитическим положением и пр.). Этот наследуемый материал становится той целостной системой, на которую наращиваются другие элементы культурной наследственности [4, с.72–74].
Понимание роли «культурного генотипа» в развертывании образовательного процесса делается особенно важным, когда мы обращаемся к анализу массовых идеалов воспитания – фокуса деятельности по инкультурации новых поколений. Именно они оказываются непосредственным продуктом «культурного генотипа», представляющего собой, по удачному выражению К.М. Кантора, проект-матрицу [4, с.70]. Этот проект, заложенный в культурную программу общества, проявляется, прежде всего, на уровне обыденного педагогического сознания, вплетаясь в ткань ментальности .
Последняя, представляя собой фиксацию на подсознательном уровне в и дения мира, сложившегося под влиянием эмоций, обеспечивающих социальной группе выживание и безопасность, предрасполагает человека действовать определенным образом, создавая «область возможного для него» [7].
Ментальность проявляется как в формально организованном образовании, так и в неформально протекающем (в семье, контактных группах и т.п.). Результат этого воздействия обнаруживается в виде неосознанных реакций, импульсивных поведенческих актов, совершаемых индивидами в процессе неформализованного обучения и воспитания. В частности, когда педагог (или иной актор образования) переживает ситуацию конфликта интересов, становится перед необходимостью нравственного выбора, именно ментальность помогает ему определиться относительно своего решения. Она же диктует педагогу метафоры, посредством которых переводятся теоретические схемы и постулаты на «понятный язык» образов.
Отражаемое в ментальности ядро культуры прямо влияет также на идеи, содержащиеся на теоретическом уровне индивидуального и общественного педагогического сознания. По сути, здесь происходит «сканирование» базовых ценностей социума и их представление в виде педагогических максим, программ воспитания и обучения, правил и традиций, правовых актов и административных инструкций в области образования.
Можно сказать, что проект-матрица, концентрирующий в себе культурный и педагогический опыт людей, их социальную память, предрасполагает воспитателя к принятию многократно апробированной модели воспитания. Осмысляя последнюю, теоретическое педагогическое сознание предлагает для трансляции парадигму воспитания – ту схему, которая включает в себя сущностные черты воспроизводимого способа реализации целенаправленной инкультурации. Данная парадигма, хоть и является феноменом общественного сознания, тем не менее, приобретает для носителей последнего статус объективности, поскольку оказывается для воспитателей заранее заданным способом деятельности по организации процесса освоения индивидом культуры собственного социума.
Обрисованная выше взаимосвязь между содержанием образования и его целеполаганием, с одной стороны, и наследуемым культурным материалом, ментальностью, с другой, стала в последнее десятилетие предметом исследования ученых, результаты которых опубликованы в ряде историко- и философско-педагогических работ [2; 3; 5; 6 и др.]. Тем не менее, рискнем утверждать, что в научно-педагогическом сообществе отношение к идее междисциплинарного синтеза в области истории и теории педагогики остается весьма острожным. Поэтому в заключение зафиксируем разделяемую нами позицию тезисно.
-
1. Глубокое осмысление всемирного образовательного процесса, его развертывания на оси социокультурной эволюции невозможно без применения комбинированной методологии.
-
2. Глубокое осмысление всемирного образовательного процесса, его развертывания на оси социокультурной эволюции невозможно без применения комбинированной методологии, которая должна включать социокультурный подход к анализу образования и культурно-историческую генетику .
-
3. Глубокое осмысление всемирного образовательного процесса, его развертывания на оси социокультурной эволюции невозможно без применения комбинированной методологии, которая должна включать социокультурный подход к анализу образования и культурно-историческую генетику, позволяющие обнаружить залегание педагогических предпочтений на уровне бессознательных психических процессов (ментальности) и выявлять обусловленность теоретико-педагогических взглядов исторически сложившимися базовыми ценностями и массовыми идеалами воспитания .
Список литературы История и теория образования в зеркале комбинированной исследовательской методологии
- Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России): В 2 т. Новосибирск: Сибирский хронограф,1997.
- Безрогов В.Г. История образования между Сциллой педагогики и Харибдой истории//Образование и общество. 2009. №5.
- Богуславский М.В. Отечественная педагогика в контексте архетипических представлений и диалога культур//Образование во времени и пространстве: сб. науч. ст. по материалам Международной научн.-практ. конф. «VII Серебряковские чтения», посв. 100-летн. юбил. П.А. Серебрякова/сост. и научн. ред. С.Г. Новиков -Волгоград, 2009.
- Кантор К.М. Двойная спираль истории: Историософия проектизма. Т.1. Общие проблемы. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Лукацкий М.А. Человек обучающийся (Homo educandus): от античности до современности//Новое в психолого-педагогических исследованиях: теоретические и практические проблемы психологии и педагогики. № 1. М.: Изд-во Моск. психолого-социального ин-та, 2008.
- Новиков С.Г. Отечественные идеалы воспитания в зеркале культурно-исторической генетики//Известия Волгоградского гос. пед. ун-та. Спецвыпуск к 90-летию проф. В.С. Ильина. 2012. №4(68).
- Раульф У. Предисловие к сборнику «История ментальностей. К реконструкции духовных процессов»//История ментальностей и историческая антропология: Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996.