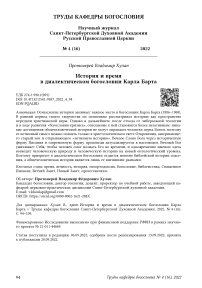История и время в диалектическом богословии Карла Барта
Автор: Хулап Владимир Фдорович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теология
Статья в выпуске: 4 (16), 2022 года.
Бесплатный доступ
Осмысление истории занимает важное место в богословии Карла Барта (1886-1968). В ранний период своего творчества он позитивно рассматривал историю как пространство передачи христианской веры. Однако в дальнейшем, после отхода от либеральной теологии и в ходе развития «богословия кризиса», отношение к ней становится более негативным: никакие достижения общечеловеческой истории не могут оправдать человека перед Богом, поэтому ее истинный смысл можно познать только в христологическом свете Откровения, завершающего старый эон и открывающего «истинную историю». Вечное Слово Бога через историческую форму Писания и современную форму проповеди актуализируется в настоящем. Вечный Бог уничижает Себя, чтобы человек смог познать Его во времени, и одновременно именно здесь возводит человеческую природу и человеческую историю на новый онтологический уровень. Поэтому приоритет в диалектическом богословии отдается именно библейской истории спасения, а общечеловеческая история является лишь ее внешними рамками.
Время, вечность, история, неоортодоксия, богословие, библеистика, священное писание, ветхий завет, новый завет, протестантизм
Короткий адрес: https://sciup.org/140297579
IDR: 140297579 | УДК: 274-1:930.1(091) | DOI: 10.47132/2541-9587_2022_4_94
Текст научной статьи История и время в диалектическом богословии Карла Барта
About the author: Archpriest Vladimir Fedorovich Khulap
Dr. Theol., Associate Professor, Vice- Rector for Education, Head of Department for Practical Theology at the St. Petersburg Theological Academy.
Funding: The reported study was funded by RFBR, project number 21-011-44069.
The article was submitted 06.09.2022; approved after reviewing 13.09.2022; accepted for publication 20.09.2022.
Швейцарский богослов Карл Барт (1886–1968) является одной из самых значительных фигур в протестантской теологии XX в.1 Он получил прекрасное образование в ряде швейцарских и немецких университетов, однако порвал с либеральным богословием своих профессоров, поддержавших Первую мировую вой ну, а также с привлекавшим его демократическим социализмом. Комментарий на Послание к римлянам (1919, особенно 2 изд. 1922)2 принес ему широкую известность и заложил основу т. н. диалектического богословия. Барт был профессором в университетах Геттингена (1921–1925), Мюнстера (1925–1930), Бонна (1930–1935) и Базеля (1935–1968). Однако богословие было для него не просто академической дисциплиной, но заложило основу активной жизненной позиции: бесстрашно выступив против национал- социализма, он стал одним из авторов «Барменской богословской декларации» (1934) и основателем «Исповедующей церкви», после окончания Второй мировой вой ны Барт последовательно подвергал критике политику холодной вой ны. В 1932 г. началось издание его главного труда, «Церковной догматики» (13 томов, остался незавершенным)3, который принес ему славу протестантского «отца Церкви XX века». Будучи свидетелем крупнейших мировых катастроф, он не мог не задаться вопросом о том, какую роль история играет в системе христианского богословия, причем попытки ответа могли выглядеть совершенно по-разному в различные периоды его жизни4.
От либерального позитивизма к «богословию кризиса»
Уже в 1910 г. в статье «Христианская вера и история»5 Барт назвал взаимоотношение веры и истории основной проблемой христианского богословия, продемонстрировав два подхода к вопросу в современной ему либеральной теологии. Первый из них, представленный Альбрехтом Ричлем (1882–1889), делал акцент прежде всего на коллективном практико- этическом опыте христианства прошлого и современности; при этом в рамках историкокритического метода историчность дел и слов Иисуса из Назарета становилась второстепенной. Второй, связанный с именем Эрнста Трёльча (1865–1923), в рамках т. н. религиозно- исторической школы (religionsgeschichtliche Schule)
подчеркивал необходимость рассмотрения религии как одной из исторических составляющих развития человечества, тем самым лишая христианство его сверхъестественной уникальности. Барт, отрицая обе точки зрения, указывает, что вера — это «опыт Бога», однако человек обретает его не просто индивидуально, но благодаря свидетельству христианских общин, т. е. исторически, поэтому для него «вера и историчность культуры становятся синонимами»6. В качестве примера он демонстрирует историческую преемственность христианской веры от апостола Павла до Лютера и Кальвина, говоря о познании «Христа вне нас» как основе христианской веры; однако через веру Он действует в человеке и становится «Христом в нас». Поскольку вера человека возникает и развивается не мгновенно, но является процессом, по своей сути она исторична: «Вера не противостоит истории, но она является лишь развитием или apprehensio истории в жизни индивидуума»7. Тем самым история рассматривается Бартом как средство передачи веры, и поскольку «исторический Иисус становится воскресшим, живым Христом в христианской общине»8, весть о спасении проходит от библейских авторов через Церковь прошлого и воспринимается сегодняшними верующими, в том числе в рамках коллективного опыта социальной и экономической жизни человечества как источник познания Бога.
Перед лицом катастрофы Первой мировой войны Карл Барт начал рассматривать человеческую историю более негативно и пессимистично, что также соответствовало его концепции диалектического богословия (хотя сам он предпочитал называть его «богословием Слова Божиего» или «богословием кризиса»). Оно стало реакцией на богословский либерализм и социально-исторический оптимизм XIX — нач. XX вв. и исходило не из «естественного богословия» или философско-религиозной антропологии, но подчеркивало абсолютную инаковость Бога (totaliter aliter) и невозможность познать Его человеческим разумом. Уже в первом издании «Послания к римлянам» (1919) резко подчеркивается различие между «этим миром» (Diesseits) и «тем миром» ( Jenseits), между миром и Богом, между «так называемой историей» (sogenannte Geschichte) и «истинной историей» (eigentliche Geschichte). Первую из них, общечеловеческую историю, Барт рассматривает как пространство отделения человека от Бога; вся она представляет собой горделивые попытки человеческого самоутверждения, поэтому по своей сути является тщетной и бесплодной. Ей противостоит «истинная история», которую Бог во Христе открывает верующим как абсолютно новую историю9. Если бы человек последовал изначальному благому плану Бога, то история могла бы развиваться в соответствии с Его волей, однако в результате грехопадения происходит своего рода ее раздвоение. Поскольку человечество подпадает под власть плоти, «так называемая история» отделяется от изначального плана Божиего, в результате чего «истинная история» не осуществляется. Поэтому вся человеческая история
«вечно вынуждена быть историей предрасположенностей и возможностей» как «закрытая от истины „реальность“»10. Она безуспешно пытается создать собственную — неприемлемую для реформатского богословия — «праведность», которой человечество могло бы оправдаться перед Богом. Поэтому ее должна завершить и преобразить «истинная история», однако не как хронологическая вторая фаза, но как нечто принципиально новое.
Барт сравнивает взаимосвязь двух историй со взаимоотношениями ветхозаветного закона и праведности Божией. Как и закон, «так называемая история» недостаточна, но вместе с тем она необходима, поскольку готовит человека к новому миру и ставит его перед дилеммой: «либо прежняя историческая и духовная связанность с миром вместе с его природной основой и тем самым — суд Божий, или же конец прежней мировой и духовной истории и созидание нового мира путем изменения метафизической предпосылки и тем самым — спасение»11. Точкой обновления и исполнения общечеловеческой истории является Откровение в Иисусе Христе, Который завершает древний эон, тем самым начиная новую историю. Откровение происходит в рамках земных реалий, в конкретный исторический момент, так что «в потоке так называемой истории проявляется новый, текущий в противоположном направлении элемент истинной истории»12. Христос становится той «точкой времени, в которой исполнено время, историческим явлением, в котором история завершена. <…> Он — начало и конец, которые стали настоящим»13. Тем самым в основе диалектики двух историй лежит их органичная взаимосвязь, ведущая к триумфу окончательной победы Бога, поэтому во Христе история обретает совершенно новое значение: в Нем «смысл истории действительно познается не как бессмыслица (Unsinn), но как осмысленность (Sinn)»14. Этот триумф означает, что библейское прошлое, настоящее во Христе и наше личное будущее объединяются в истории Бога; однако такое единство не исключает человеческого многообразия, точкой конвергенции которого является воскресший Христос.
В этом контексте Барт указывает на опасность таких человеческих движущих сил истории, как индивидуализм, ложная религиозность и морализм. Первая из них, подчеркивающая историческую роль личности, оказывается несостоятельной перед лицом универсализма Божественного осуждения и благодати. Библия повествует не о героях прошлого и развитии их личностных качеств, но о возможности причастности каждого человека истории Бога15. Однако проблема может возникать не только в индивидуальном, но и в религиозном пространстве: «религия — необходимая духовная реакция на творческое дело Божие, Церковь — неизбежное историческое обрамление, передача и канал прорывающегося Божественного источника», однако нельзя забывать, что они являются не самоцелью, но только средствами, поскольку
«решающие дела Божии предшествуют им, и истинные намерения Божии выходят далеко за их пределы»16. Одновременно либеральный идеалистический морализм рассматривает Христа лишь как выразителя полноты этики, к которой должно стремиться человечество. Барт указывает, что содержание мессианского обетования — «это не идеальная цель прежней истории, но реальное начало новой истории, прекращение того данного, на что ориентируется мораль, обоснование [истории] в праведности [Бога]»17. В качестве примера он приводит Авраама, вера которого «не является знанием морали, но основанием в праведности, его обетование — не идеальное и поэтому частное, но реальное и поэтому универсальное, его потомство — не по-человечески ограниченное, но в силу верности Божией охватывающее все человечество»18. Более того, одинокий и бездетный Авраам не вписывается в рамки исторических достижений, но именно поэтому в его жизни происходит чудо — ведь его вера является признанием возможности творческого действия Бога именно там, где общечеловеческая история не приносит своих плодов19.
Второе издание «Послания к римлянам» (1922) представляет собой полностью переработанный текст, который содержит в себе, наверное, самую резкую критику истории Бартом. Здесь особо подчеркивается исключительная важность веры, выявляющей принципиальное различие между Богом и человечеством, вечностью и временем. Во втором издании не делается различия между «так называемой историей» и «истинной историей», поскольку последняя простирается здесь назад и вперед как протоистория (Urgeschichte) и последняя история (Endgeschichte). На место оптимистического созерцания Божественного триумфа в истории встает грозный суд абсолютно инакового и вечного Бога над ней — в воскресении, которое одновременно исторично и неисторично: «Воскресение — это событие перед вратами Иерусалима в 30 году, поскольку оно там „совершилось“, было открыто и постигнуто. В то же время воскресение — нечто совсем иное, поскольку его необходимость, явление и откровение определяются не его совершением, открытием и постижением, но оно само здесь — определяющее»20.
В качестве иллюстрации этого парадокса воскресения Барт использует образ прямой линии, соприкасающейся с окружностью. Точка на линии их пересечения открывает границу между ведомым и неведомым миром, воскресение происходит здесь как историческое событие. С другой стороны, если эта касательная просто прикасается к кругу, реально не входя в него и не занимая в нем никакого пространства, воскресение нельзя рассматривать как событие, происходящее в конкретном времени и месте, поскольку само воскресение не обусловлено человеческим открытием и постижением этого события21. Причем причастность воскресению означает присутствие подобного парадокса и в жизни самого верующего: «Очевидно, что воскресение Христа из мертвых не есть событие исторической величины в ряду других событий Его жизни и смерти, но „неисторическая“ связь всей Его исторической жизни с ее началом в Боге. С другой стороны, так же очевидно, что и мое „хождение в обновлении жизни“, вторгающееся в силе воскресения как необходимость и действительность в мое бытие, не есть и не будет ни в моем прошлом, ни в моем настоящем, ни в моем будущем событием в ряду других событий»22. Поэтому Барт не пытается решить проблему «историчности» воскресения в рамках либерального богословия, но подчеркивает его абсолютную инаковость и уникальность несмотря на то, что оно происходит в истории. С человеческой точки зрения воскресение невозможно, поскольку оно отличается от любого другого исторического события и не определено причинно-следственной цепочкой. Однако, чтобы люди могли познать вечного Бога, воскресение происходит в истории и не вне истории, оно реально и поэтому возможно. Эта «невозможная возможность» воскресения является «созерцанием невидимой благодати Божьей (исторически на грани неисторического и неисторически на грани исторического)», поэтому «возможность того, что воля Божия может совершаться на земле в людях и через людей, возможность того, что освященная человеческая жизнь становится исторической и видимой, что бесконечное охватывает конечное… с точки зрения благодати необходимо утверждать как окончательную и в конце концов единственную возможность. <…> Эта возможность — возможность невозможного. Это событие — становление историчным неисторичного. Это Откровение — Откровение вечной тайны, и это созерцание — созерцание невидимого»23.
Ввиду бесконечного качественного различия между вечностью и временем исторические реалии рассматриваются Бартом как не имеющие независимого бытия. Если вечность обладает абсолютным приоритетом по отношению ко времени как его начало и конец, то вся находящаяся между ними история может рассматриваться как не обладающая собственной ценностью. Тем самым в истории нет какого-то периода, который имел бы более высокий статус, чем остальные, и такое положение дел особенно ярко проявляется перед лицом «истории спасения»: «Не существует никакой особой Божественной истории как частицы и количества общей истории. Вся религиозная и церковная история полностью осуществляется в мире. Так называемая „история спасения“ — это лишь непрерывный кризис всей истории, а не какая-то история внутри или рядом с историей»24. Поэтому перед лицом кризиса, вызванного «историей спасения», вся человеческая история лишается любых обожествленных или спасительных признаков. Барт выражает эту мысль довольно категорично, в традиционных реформатских богословских рамках стремясь подчеркнуть тщетность всех человеческих усилий, в т. ч. исторических, перед Богом: «История религий, история Церкви абсолютно „слаба“. Она такова в силу бесконечного качественного различия между Богом и человеком. Как человеческая, абсолютно человеческая история она есть плоть. Она — плоть, даже если она сама пытается маскироваться под „историю спасения“. А вся плоть — как трава»25.
Поскольку человечество безусловно и бесконечно виновно перед Богом, вся история лишь подчеркивает эту вину, как бы обвиняя саму себя, и в конечном итоге приводит к учению о первородном грехе как единственному результату любого честного исторического исследования26. Однако, несмотря на то что весь мир и его история подлежат проклятью, все же именно в них раскрывается «праведность Божия, независимая от закона», так что необходимо «радикальное прекращение исторической и психологической действительности, всеобъемлющее ограничение ее ступеней и противоречий»27, чтобы увидеть истинное и вечное значение истории. Именно здесь начинается путь к относительно позитивной ее оценке, в центре которой находится ее функция свидетельства. Прежде всего, свидетельство подразумевает указание за свои пределы, поэтому история, находящаяся между «Альфа и Омега, между началом и концом»28, рассматривается как посредница, постоянно указывающая на находящуюся за ее пределами цель или смысл. Такое свидетельство также включает в себя парадоксальное диалектическое самоотрицание, поскольку в качестве свидетельства история подтверждается только в том случае, если она отрицается: «след Откровения — это вечная реальность, причем он — ничто как след, и он — все как указание на Откровение»29. Также функция свидетельства истории подразумевает отрицание множественности ради утверждения единственности: огромное разнообразие исторических событий может быть интересным с человеческой точки зрения, но сам этот факт еще не придает значения истории как таковой, истинную ценность она может обрести только из перспективы единого действия Бога. Историю освещает «неисторический высший свет» (ungeschichtliche Oberlicht), в котором она обретает единственно верный смысл, поскольку в противном случае она остается лишь «простым сосуществованием культур или последовательностью эпох, простым многообразием… различных индивидуумов, времен, отношений и институтов, центробежным движением и ускорением простых явлений»30. Только в перспективе вечности прошлое начинает говорить и настоящее начинает слушать, исторические исследования становятся по-настоящему значимыми, а вся история раскрывается как «синтетическое произведение искусства»31.
Слово Божие: история и вечность
В 1924 г. Барт начал читать лекции по догматике в университете Геттингена, что стало важным импульсом для систематизации его богословских взглядов32. Основной исходной точкой здесь является христологическое понимание вечного Откровения, которое через историческую форму Писания и современную форму проповеди актуализируется в настоящем. На основании принципа sola Scriptura Барт подчеркивает, что Писание является для Церкви «порождающим и нормативным историческим принципом»33. Оно представляет собой историческую связь между Откровением и Церковью, однако эта связь не просто статична и фиксирована, Откровение в Церкви должно «по-новому обосновываться, по-новому искаться и обретаться, по-новому да-роваться»34 через Писание в каждый конкретный исторический период. В свою очередь, проповедь в ту или иную эпоху актуализирует Слово Божие, поэтому именно в истории Писание (и в нем — Откровение) передается нынешним верующим Духом Святым. Тем самым истинная проповедь исторически укоренена в Писании как в своем предшествующем основании, а Писание, в свою очередь, связано со своим источником — Откровением. Именно поэтому для Барта недостаточен лишь исторический подход к Писанию (напр., в рамках историко- критического метода), поскольку в этом случае не происходит обращения за пределы человеческой истории к вечному Откровению.
Одним из центральных терминов для Барта становится Deus dixit, подчеркивающий абсолютность говорящего Бога и указывающий на реальность исторической встречи Бога и человека. Если трансцендентный Бог реально открывается человечеству, историчность — неизбежное измерение воплощения Иисуса Христа, причем эта неизбежность не предполагает какой-то зависимости Откровения от истории. Поскольку Бог действительно становится человеком в истории, человеческая история тем самым обретает новое качество, она становится «квалифицированной историей» (qualifizierte Geschichte)35. Однако историчность библейского Откровения не исключает того, что по своей сути оно является «доисторическим (prähistorisch), протоисторическим (urgeschichtlich) в том смысле, что происходящее во времени… недоступно прямому созерцанию»36. Тем не менее, абсолютная инаковость и превосходство Бога над миром подразумевают внутреннюю сокрытость Его Откровения, так что «даже в Своем Откровении, именно в Своем Откровении Бог есть сокрытый Бог»37. В любом случае Бог — это субъект, а не объект, которым Его пытается сделать человек. Историческое событие Откровения уникально потому, что в его основе лежит уникальность Самого Бога, следствием чего становится «радикальное разбожествление мира, природы и истории»38.
В своем «Очерке христианской догматике» (1927) Барт также опреде ляет Откровение в Иисусе Хр исте как протоисторическое (urgeschichtlich)
событие. Бог не просто пребывает во внутритроичном бытии, но свободно решает встретиться с человечеством в историческом событии Откровения. Однако, вновь подчеркивая невозможность смешения этих двух реалий, Барт категорически указывает: «История — предикат Откровения, но Откровение тем самым не становится предикатом истории. Бог действует в истории, однако история тем самым сама не является откровенным действием Бога. <…> Невозможно вначале говорить об истории, чтобы после каким-то образом с каким-то усилением и акцентом говорить об Откровении. Можно лишь вначале говорить об Откровении, чтобы позже разъясняющее говорить об истории»39. История мира и человека нуждается в обретении смысла, и это возможно только в свете Откровения, которое является прототипом, значением и исполнением истории, тем самым возникает «история в истории», которую Барт называет «историей надежды»40. Поэтому он приходит к следующему определению взаимоотношений Откровения и истории: «Вот позитивное отношений всей истории к протоистории (Urgeschichte): она может относиться к ней как периферия к центру, как пророчество к исполнению, как адвент к Рождеству. Не являясь самой Откровением как протоистория, она, зная об Откровении, может свидетельствовать о нем, быть причастным ему и тем самым быть квалифицированной историей второй степени, историей, которая осуществляется по направлению к протоисто-рии»41. В итоге у Барта возникает многоплановая концепция Откровения, в которой сохраняется как его имманентная (историческая), так и трансцендентная (неисторическая) стороны.
В марте 1930 г. Барт переехал в Бонн, где прожил до своей высылки из Германии и переезда в Базель в 1935 г. Именно здесь началась работа над его знаменитой многотомной «Церковной догматикой», которая существенно отличается от прежних кратких версий и именно в ней наиболее ярко проявился его диалектический подход в богословии. Исходя из уже представленной ранее троякой формы Слова Божиего (вечной, исторической и современной), Барт определяет его как речь Бога, являющуюся Его актом и Его тайной. Это означает для него диалектическую «контингентную одновременность»42: три этих формы разделены исторической дистанцией и только в акте Бога они становятся одновременными. Подобно всем историческим событиям, каждый момент Откровения Слова Божиего в истории также имеет свою уникальную локализацию «где и когда» (ubi et quando). Однако в отличие от всех других локализируемых исторических событий, Слово Божие в истории претендует на особую уникальность: описываемые им конкретные исторические реалии используются Самим Богом для произнесения и слышания Его Слова. С этим неразрывно связана еще одна диалектическая особенность: «речь
Бога является и остается тайной Бога, прежде всего, в ее секулярности»43. Поскольку эта тайна скрыта от человечества, история становится необходимым секулярным пространством для ее раскрытия в мире ограниченных человеческих существ, однако, в силу своей ограниченности, она все же не может соответствовать сущности Слова Божиего. При этом возникает вопрос о значении и границах исторического знания, которое не может ни констатировать, ни отрицать с помощью своего инструментария связь между Богом и человеком в Откровении, поскольку в данном случае идет не о каких-то общечеловеческих способностях, но о «слышании или неслышании библейской истории»44. Постижение Откровения конкретными людьми — не их собственная заслуга, но особенное действие Святого Духа, поскольку Откровение не является чем-то самоочевидным.
Откровение — это событие, в котором «у Бога есть время для нас»45. Барт различает три вида времени: сотворенное Богом, падшее время и время Откровения, причем подчеркивает, что мы не обладаем ни одним из них. Первое скрыто от человека, обладание вторым — лишь самообман, и только в Откровении время даруется нам Богом46. Поскольку время было сотворено Богом и стало причастно грехопадению человечества, Бог воссоздает его для нас, творя время Откровения «для нас»47. Откровение исполняет время, восстанавливая во времени то, чем оно должно было быть в истории творения, и дарует это исполненное время людям. Ветхий Завет — время ожидания, взирающее вперед на грядущее Откровение, Новый Завет — время воспоминания, взирающее назад на осуществившееся Откровение во Христе, которое, тем самым, является центром истории. Барт подчеркивает, что ветхозаветные израильтяне обладали не просто абстрактной идеей о Боге, но верили в Бога, реально действующего в истории. Тем самым исторический опыт жизни с Богом стал для Израиля основой его богословия: Бог открывается в Своих особых исторических действиях, человеческое познание Бога вырастает из постоянного осознания, постижения и разъяснения этих событий48. Вечный Бог уничижает Себя, чтобы люди имели возможность познать Его. Ввиду ограниченности нашего человеческого сознания это познание возможно только в потоке времени: «Во времени (zeitlich) означает… в повторении, в познании, которое идет вперед от одного настоящего к другому, которое вновь начинается в каждом настоящем, в серии отдельных актов познания»49. Однако человеческое познание Бога происходит не просто линейно, Барт полагает, что этот процесс скорее представляет собой круговое движение: «Оно осуществляется во всецелом окружении этого центра, во всецелом окружении сакраментальной реальности через последовательность свидетельств и познаний, каждое из которых ожидает и указывает на другое, каждое определяет другое и определяется другим: … вся истина является для нас временнóй и тем самым требующей повторения истиной»50. Такой образ подчеркивает, что познание Бога не является простым повторением, но скорее постоянным динамическим указанием на центр и движением к нему: к Откровению в Иисусе Христе.
Для Барта бытие Бога подразумевает Его действие, тезис «Бог есть» обязательным образом означает «Бог — Тот, Кто Он есть в акте Его Откровени-я»51. В свою очередь, акт Откровения — это событие (Ereignis) или действие (Geschehen), которое всегда включает в себя прошлое, настоящее и будущее. Так, Откровение в Иисусе Христе произошло однажды в прошлом, в конкретный исторический момент, однако оно до сих пор происходит в настоящем, т. е. в каждый новый период истории, и одновременно является будущим (zukünftig), поскольку всегда находится еще перед нами. Тем самым акт Откровения исторически завершен в прошлом, полностью современен в настоящем и грядет в будущем52. При этом возникает вопрос о соотношении неизменяемости Бога и Его исторического действия в истории, о соотношении вечности и времени. Действительно, вечный Бог не претерпевает изменений, что не препятствует Ему, однако, творить новое и также обладать собственной историей, т. е. историей спасения мира и человечества. Поэтому неизменный Бог «обладает в сотворенном Им мире и вместе с этим миром реальной историей: осуществленной Им историей примирения и откровения, через которые Он ведет его к будущему спасению»53.
В свою очередь, вечность для Барта является не просто отсутствием времени в абстрактном и негативном смысле, но это именно вечность Бога, определяемая Его свободой и означающая Его суверенность. В этой вечности «начало», «центр» и «конец» происходят однажды и одновременно (einmal und zugleich)54; тем самым из понятия вечности исключается не время как таковое, но то, что считается его негативными признаками. В связи с этим Барт указывает на несколько аспектов, связывающих вечность и время. Прежде всего, вечный Бог не просто сотворил время, но использует его для нас в Своем Откровении в Иисусе Христе: «Вечность Бога, которая сама не есть время, является абсолютной основой времени и одновременно абсолютной готовностью для него»55. Поэтому вечность не исключает, но включает в себя время, понятое как последовательность следующих друг за другом событий. В таком понимании вечность не есть «безвременностью», но она как бы окружает или охватывает время, являясь довременной (vorzeitlich), надвременной (überzeitlich) и поствременной (nachzeitlich), хотя одновременно со-временной (mitzeitlich) и внутривременной (inzeitlich)56. В рамках такого взгляда может показаться, что трансцендентность Бога подчиняется Его имманентности, однако Барт подчеркивает, что здесь нет никакого противоречия, поскольку встреча вечности со временем — это свободное решение Самого Бога. Поскольку вечность действительно вошла во время, Сам Бог — «не только безвременный, но в этой готовности для времени… также является временны́м»57. Поскольку вечное Слово Божие воплощается в истории, то в Нем все человеческое (в т. ч. временное) уже предвосхищается в вечности. Слова «в начале» (Ин 1:1) означают для Барта вечность, в которой и происходит Божественное решение о времени: Христос «Сам был планом и решением Бога, содержательно определенным Божественным решением в отношении всего творения и всей его истории»58.
Бог свободно выбирает бытие со временем, тем самым придавая каждой исторической эпохе ее особое значение. Однако вместо того, чтобы поместить священную историю в рамки общемировой истории (как делают светские историки), Барт поступает прямо противоположным образом, указывая, что с библейской точки зрения именно она имеет богословскую функцию свидетельства по отношению ко всей остальной истории. «Согласно Библии, рамками и основой всех событий во времени является история завета между Богом и человеком, от Адама через Ноя к Аврааму и от Иакова через Давида ко Христу и ко всем верующим в Него. В этих рамках вся история природы и мира также играет свою определенную роль — но не наоборот, хотя логически- эмпирически все, безусловно, должно было бы происходить в обратном направлении»59. Тем самым приоритет отдается особой истории народа Божиего, а всеобщая история является лишь ее рамками. Однако такое понимание истории доступно только созерцанию веры, поскольку в ее основе находится тайна, «которая сокрыта там, в общемировых событиях, и открывается в особом событии спасения. <…> Все другие события в мире устремлены к событию спасения, ради которого они должны происходить: чтобы во времени становилось видимым и действенным это предшествующее всему решение Бога и тем самым Божественное избрание человека»60.
Скрытая истории спасения (Urgeschichte) раскрывается в истории мира, творение которого является внешними рамками завета, а завет — внутренней основой и смыслом всего творения. В такой схеме весь исторический процесс рассматривается как развитие этой неразрывной связи между творением и заветом, ведущий к избранию верующих во Христа. Хотя история творения предшествует истории завета хронологически, последняя предшествует ей интенционально как смысл и цель творения61. Творение начинает историю, решение о завете Бог принимает в вечности, а затем осуществляет и актуализирует его в истории. В ней воедино связываются вечное избрание, уникальное творение и промышление о мире как продолжающееся действие Бога. В общеисторических рамках история спасения представляет собой «удивительно тонкую линию»62, однако она является «основой ее существования и познания»63. Это не просто некий элемент, добавляющийся ко многим другим линиям тварной истории, но он неразрывно связан с ней: «именно в эти общие события не только включены, но вплетены до неразличимости особые события в Израиле, в Иисусе Христе, в Его об-щине»64. В такой перспективе всеобщую историю нельзя рассматривать как оторванную от истории спасения или историю спасения как просто добавленную ко всеобщей истории, поскольку Бог является властителем их обеих65. Барт указывает на то, что человеческие концепции истории важны и необходимы, но вместе с тем только в рамках христианского богословия человеческая история обретает свой смысл и основание в примирении Бога с миром во Христе. Примирение для него — это восстановление реальности, в которой Бог пребывает с нами, и эта реальность — общая история, которую Бог хочет разделить с человечеством: «Он не позволяет Своей истории быть только Его историей и нашей истории — быть только нашей историей, но дает им осуществляться как общей истории», поэтому вся история мира становится «Его особенной историей»66. Тем самым общая история Бога, всего творения и человека становится «в своем центре и на своей вершине историей спасения»67.
Если вхождение Бога в историю — это Его самоуничижение, то одновременно именно здесь происходит возвышение человеческой природы, а вместе с тем и всей человеческой истории. В Иисусе Христа она становится причастной Богу, т. е. обретает такой онтологический статус, что ее уже нельзя рассматривать как случайную или недостаточную; она — легитимная реальность, включенная в полноту отношений с Богом. В человеческой истории Иисуса Христа осуществляется то, что Барт называет «совместным осуществлением (Verwirklichung) Божественной и человеческой природы»68. Поэтому она не является просто изолированной историей (Sondergeschichte), но, несмотря на свою уникальность, представляет собой «не частную, но Его репрезентативную и тем самым публичную историю, происходящую для всех других людей, в осуществлении их примирения: историю их Главы, которой все они причастны. Это именно особая история этого Единого в самом конкретном понимании мировой истории: поскольку Бог во Христе примирил мир (2 Кор 5:19) и тем самым нас — каждого из нас — с Собой. В этом Едином было и остается вознесенным и возвышенным человеческое, наша природа как та-ковая»69. Поэтому Христос — не просто пример (Beispiel), но глава (Haupt) всего человечества70, представляющий всех нас перед Богом и поэтому Его человеческая история действительно становится историей спасения всех верующих.
Из представленного обзора видно, что Карл Барт по-разному осмыслял значение истории в различные периоды своего богословского творчества. Если в ранний период она рассматривалась скорее позитивно-функционально как средство передачи христианской веры от одного поколения к другому, то после разрыва с либеральным богословием его позиция кардинально меняется. Общечеловеческая история со всеми ее достижениями и усилиями критически отрицается как противостоящая Богу, Который предлагает миру Свою «истинную историю», познаваемую только в свете веры. Вместе с тем, в более поздний «догматический» период очевидно стремление предложить схему, в которой Откровение сохраняет как свою трансцендентную (неисторическую), так и имманентную (историческую) стороны, а всемирная история диалектически утверждается как место Богопознания путем своего отрицания и указания за пределы себя самой через свидетельство о Христе как ее центре.
Безусловно, богословскую концепцию истории и времени Барта нельзя назвать целостной и законченной (напр., в оставшейся незавершенной «Церковной догматике» нет раздела, посвященного эсхатологии). Тем не менее, она сыграла важную роль в западной теологии XX в., поскольку тезис «история является предикатом Откровения» (а не наоборот) означал радикальную критику господствовавшей либеральной богословской парадигмы, в которой рационалистический историко-критический метод был возведен на уровень главенствующего принципа. И хотя противники критиковали Барта за его «библицизм», «фидеизм» и т.д., именно его неоортодоксия еще раз напомнила западному богословию о том, что в текущем и изменчивом мире человеческой истории с ее многочисленными кризисами христианство нуждается в твердом и неизменном основании Слова Божиего — вечного, исторически зафиксированного в Священном Писании и непрестанно продолжающем звучать в благовестии Церкви.
Список литературы История и время в диалектическом богословии Карла Барта
- Барт К. Очерк догматики. СПб., 2000.
- Барт К. Послание к Римлянам. М., 2005.
- Барт К. Церковная догматика. Т. 1-4. М., 2007-2015.
- Васечко В. Н. Барт // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 361-366.
- Barth K. Die Christliche Dogmatik im Entwurf. Bd. 1. Die Lehre vom Worte Gottes, Prolegomena zur christlichen Dogmatik 1927 / Hsrg. von G. Sauter (Karl-BarthGesamtausgabe. Bd. 14). Zürich, 1982.
- Barth K. Die Kirchliche Dogmatik I/1. Die Lehre vom Worte Gottes, 1 (1-12). Zürich, 1980.
- Barth K. Die Kirchliche Dogmatik I/2. Die Lehre vom Worte Gottes, 2 (13-24). Zürich, 1980.
- Barth K. Die Kirchliche Dogmatik II/1. Die Lehre von Gott, 1 (25-31). Zürich, 1980.
- Barth K. Die Kirchliche Dogmatik II/2. Die Lehre von Gott, 2 (32-39). Zürich, 1980.
- Barth K. Die Kirchliche Dogmatik III/1. Die Lehre von der Schöpfung, 1 (40-42). Zürich, 1980.
- Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/1. Die Lehre von der Versöhnung, 1 (57-63). Zürich, 1980.
- Barth K. Die Kirchliche Dogmatik IV/2. Die Lehre von der Versöhnung, 2 (64-68). Zürich, 1980.
- Barth K. Der Römerbrief (Erste Fassung) / Hrsg. von H. Schmidt (Karl-BarthGesamtausgabe. Bd. 16). Zürich, 1985.
- Barth K. Der Römerbrief (Zweite Fassung) / Hrsg. von C. van der Kooi, K. Tolstaja (Karl-Barth-Gesamtausgabe. Bd. 47). Zürich, 2010.
- Barth K. Unterricht in der christlichen Religion. Teil 1. Prolegomena 1924 / Hsrg. von H. Reffen, H. Stoevesandt (Karl-Barth-Gesamtausgabe. Bd. 17). Zürich, 1985.
- Barth K. Vorträge und kleinere Arbeiten, 1909-1914 / Hsrg. von H.-A. Drewes, H. Stoevesandt (Karl-Barth-Gesamtausgabe. Bd. 22). Zürich, 1993.
- Busch E. Karl Barths Lebenslauf. Zürich, 2005.
- Frey Ch. Die Theologie Karl Barths. Frankfurt a.M., 1988.
- Huizing K. Gottes Genosse. Eine Annäherung an Karl Barth. Hamburg, 2018.
- Tietz Ch. Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch. München, 2018.