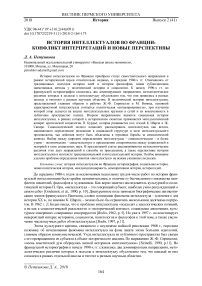История интеллектуалов во Франции: конфликт интерпретаций и новые перспективы
Автор: Петушкова Д.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Интеллектуальная история
Статья в выпуске: 2 (41), 2018 года.
Бесплатный доступ
История интеллектуалов во Франции приобрела статус самостоятельного направления в рамках исторической науки относительно недавно, в середине 1980-х гг. Отказавшись от традиционных подходов истории идей и истории философии, новая субдисциплина заимствовала методы у политической истории и социологии. К началу 1990-х гг. во французской историографии сложились два доминирующих направления, методологическое различие которых в подходе к интеллектуалу обусловлено тем, что они появились в разных школах и тяготеют к разным научным областям. В политической истории интеллектуалов, представленной главным образом в работах Ж.-Ф. Сиринелли и М. Винока, основной характеристикой интеллектуала считается политическая «ангажированность», при изучении которой упор делается на анализ интеллектуальных кружков и сетей и их вовлеченности в публичное пространство полиса. Вторым направлением является социальная история интеллектуалов, в рамках которой к историческим сюжетам применяется методологический аппарат критической социологии П. Бурдьё, которая развивается под эгидой К. Шарля и Ж. Сапиро. Социологический подход позволяет рассматривать интеллектуала как агента, занимающего определенное положение в социальной структуре и поле интеллектуального производства, чьи действия могут быть объяснены в терминах борьбы за символический капитал. Выбор между широким определением интеллектуала - социологическим - и более узким - политическим - свидетельствует о продолжении соперничества между социологией и историей в поле социальных наук. В предлагаемой статье рассматриваются методологические различия этих двух направлений и способы их преодоления, а также перспективы истории интеллектуалов в контексте транснациональной и интеллектуальной истории. Особое внимание уделено проблеме определения понятия «интеллектуал» на основе указанных подходов.
История интеллектуалов во франции, историография, социальная история, новая политическая история, междисциплинарность, компаративная история, история идей
Короткий адрес: https://sciup.org/147245164
IDR: 147245164 | УДК: 94(44)"19"+316.2(44)(091) | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-2-164-173
Текст научной статьи История интеллектуалов во Франции: конфликт интерпретаций и новые перспективы
До середины 1980-х годов за исключением нескольких трудов число работ по истории французской интеллигенции было крайне незначительным, в отличие от бесчисленного множества памфлетов писателей, философов и художников. Как верно заметил исследователь культурной и политической истории П. Ори, «интеллектуал – это говорящий субъект, наиболее умно рассуждающий о самом себе» [Goulemot, et al., 1990, p. 10]. Дискурсивное поле занимали биографические жизнеописания членов французского Пантеона, словно понимание феномена интеллектула – ключевого для истории XX в., по мнению К. Шарля, – можно было бы ограничить несколькими десятками портретов. В 1962 г. Л. Боден писал, что к проблеме интеллектуала «подходят с идеологических позиций, а не как к социологической реальности» и «исторический контекст, социальная диспозиция, культурное измерение» совершенно игнорируются [ Bodin , 1962, p. 5]. Но уже в 1997 г. он констатирует невероятный интерес историков, социологов, политологов и философов к этой теме, а также увеличение числа научных работ об интеллектуалах [ Bodin , 1997, p.11].
Эпоха культурного кризиса, связанного с неудачами майской революции 1968 г., породила полемику об исчезновении феномена интеллектуала на фоне заката эпохи больших идеологий, главным образом коммунистической. Уход интеллектуала из публичного пространства был связан с его превращением из субъекта в объект исторического анализа. По выражению Ж.-Ф. Сиринелли, «осень властителей дум обернулась весной историков интеллектуалов» [Sirinelli, 1990, p.11]. Во французской историографии к началу 1990-х гг. сложились два доминирующих направления, методологическое различие которых в подходе к интеллектуалу обусловлено тем, что каждый из них сложился в рамках отдельной школы и тяготел к разным научным областям.
В политической истории интеллектуалов, получившей развитие благодаря трудам Ж.– Ф. Сиринелли и образованной им Группы по изучению истории интеллектуалов (Groupe de recherche sur l’histoire des intellectuels, GRHI) в рамках Института современной истории (L’Institut de l’histoire du temps présent, IHTP), интеллектуалы рассматривались как политический феномен, появившийся в конце XIX в. в ходе подписания коллективного манифеста интеллигенции в поддержку Дрейфуса (знаменитое письмо Э. Золя «Я обвиняю»). Вторым направлением стала историческая социология, которая усилиями К. Шарль и его ученики пыталась объяснить действия агентов через анализ их социального положения и диспозиций в интеллектуальном поле, используя категориальный аппарат П. Бурдьё. Противопоставление широкого определения интеллектуала (по Бурдьё) узкому (по Сиринелли) свидетельствует о продолжающемся соперничестве социологии и истории в поле социальных наук. Различие этих двух подходов и перспективы исследований в области указанной дисциплины и будут рассмотрены в статье.
Кратко сформулировать центральную проблему истории интеллектуалов во французской историографии можно следующим образом: как и у каждой научной дисциплины1, у нее есть свои методы, система референций, институциональные структуры и язык описания, но нет четкого определения предмета исследования. Дать определение интеллектуала – серьезная проблема, поскольку контуры этой социальной группы сильно размыты, она не представляет собой ни касту, ни класс, ни социальный слой [ Leymarie , 2001, p.11].
Социологический подход к указанной проблеме предполагает широкое социо-профессиональное определение через оппозицию ручного и интеллектуального труда. Оно появилось в уставе «Конфедерации интеллектуальных работников» (CTI) Всеобщей конфедерации труда еще в 1920–х гг. и вошло в уставные документы ООН: «Интеллектуальным работником является тот, кто обеспечивает свое существование работой, в которой интеллектуальная составляющая, включая инициативность и личные качества, преобладают над физическим трудом»2. Таким образом, в эту категорию наряду с университетскими преподавателями и писателями попадают и управляющие предприятиями, и менеджеры среднего звена, а интеллектуал приравнивается к «интеллектуальному работнику».
Не удовлетворившись столь широким понятием, историки попытались дать культурологическую альтернативу: «Интеллектуал является производителем и медиатором культуры». Но и это определение представляется внешней характеристикой, указывающей на принадлежность к культурному полю производства [ Sirinelli , 1986, p.98].
В середине 1980-х гг. к проблеме обратились представители школы «новой политической истории» Ж.-Ф. Сиринелли и П. Ори. Их совместный труд «История интеллектуалов во Франции от дела Дрейфуса до наших дней» [ Ory, Sirinelli , 1986] явился первой монографией по истории французской интеллигенции, определившей рамки и методы политического направления новой субдисциплины. Они дополнили культурологическое определение следующим образом: «Интеллектуал есть производитель или медиатор культуры, поставленный в позицию человека политического, производителя или потребителя идеологии» [ Ory, Sirinelli , 1986, p.10]. Их определение строится вокруг главной характеристики интеллектуала – вовлеченности как агента или ангажированности ( engagement ) в публичное пространство полиса ( cité ) в качестве политического субъекта или свидетеля своего времени, выносящего ему приговор и вскрывающего его болевые точки [Sirinelly, 1986, р. 99]. Резюмируя общую для данного направления систему установок, М. Винок чуть позже сформулирует определение так: «Интеллектуал – это человек, обладающий культурным и символическим капиталом, приобретенным в профессиональной сфере деятельности, и вступающий в публичное (политическое) пространство, таким образом выходя за рамки своей профессиональной компетенции» [Juillard, Winock, 2009, p.10].
Политическая история интеллектуалов: ангажированность par excellence
В статье-манифесте 1986 г. Сиринелли определяет это направление как «историю на стадии строительства» ( histoire en chantier ), призванную преодолеть традиционные подходы истории идей и истории философии [Sirinelli, 1986, p.97]. В область интереса нового направления попадали не сами продукты интеллектуального труда (тексты и идеи), а непосредственные действия интеллектуалов в политическом поле: манифесты, петиции, участие в партийных институтах и политических движениях. Именно поэтому понятие «политическая ангажированность» Сиринелли выбрал центральным для определения своего объекта.
Направление начало развиваться в созданной в 1986 г.3 Сиринелли Рабочей группе по истории интеллектуалов в Институте современной истории, преобразованной в 1992 г. в Группу исследований по истории интеллектуалов под руководством историков М. Требитча и Н. Расин (Groupe de recherche sur l’histoire des intellectuels, GRHI-IHTP) и взявшей курс на компаративные исследования в европейской перспективе. Метод, разработанный Сиринелли, предполагает анализ «мест, кругов коммуникации и сетей» интеллектуалов ( lieux, milieu, réseaux ) в трех измерениях: географическом, социальном и археологическом [ Sirinelli , 1988, p.10–11]. При археологическом измерении изучается взаимодействие акторов в интеллектуальных кружках или группах; при географическом – очерчиваются и определяются места и сети культурного производства; при генеалогическом – выявляются связи с прошлым. Этот подход осуществляется с использованием трех методов: исследования индивидуальных жизненных траекторий, выделения границ отдельных «поколений» (обычно связанных с переживанием одного масштабного исторического опыта) и анализа структур «социабельности» ( structures de sociabilité ) [ Sirinelli , 1986, p. 99–100].
Термин «социабельность» Сиринелли заимствовал у М. Агулона. Под ним он подразумевал «постоянное или временное объединение, безотносительно степени институциализации, выбранное интеллектуалом для участия» [ Aguhlon , 1979, p.14]. В широком смысле под социабельностью понимаются интеллектуальные группы, а также создаваемые ими коммуникационные сети и связи, посредством которых транслируется политическое и идеологическое влияние. Элементарными единицами ( milieux ) и ядром «структур социабельности» являются журналы, к примеру, «Esprit», «LesTemps Modernes», а также газеты, литературные кружки, политические группировки, анализ внутреннего функционирования которых позволяет реконструировать эволюцию, распространение идей как внутри группы, так и в более широком пространстве интеллектуальных «сетей» (иерархическое – от «учителей» к «ученикам» и горизонтальное).
Интеллектуальные группы обыкновенно формируются вокруг центральной фигуры, по выражению Сиринелли, «будителя», задающего идеологическую и политическую направленность всей группе. Границы его интеллектуального влияния и ответственности Сиринелли рассмотрел на примере философа Алена, профессора подготовительных курсов Высшей нормальной школы, пропагандировавшего радикальный пацифизм и гражданское неповиновение властям в 1920–1930-е гг. во Франции [ Sirinelli , 1988]. Находясь на пересечении трех «кругов коммуникации» – образовательной системы, журналистики и публичной политики, Ален оказывал на молодое поколение сильное влияние и сформировал группу «новообращенных», члены которой стали в 1930-х гг. главными фигурами французского пацифизма и коллаборационизма [ Sirinelli , 1988, p.274–275].
При анализе групп и сетей в поле внимания исследователя должно попадать множество факторов, определяющих способы взаимодействия агентов: институциональные, научные, политические, а также эмоциональные – проявления дружбы, вражды или соперничества. Сиринелли описывает два возможных пути вхождения молодых интеллектуалов в интеллектуальный «круг»: через оппозицию к доминирующим фигурам посредством публичной критики или создания собственного журнала/кружка либо через подчинение существующим в группе ритуалам, принятие устоявшегося образа мысли и действия [ Sirinelli , 1993, p.17].
Культурное измерение данного подхода состоит в анализе индивидуальных убеждений и течений мысли, повлиявших на отдельные фигуры или группы интеллектуалов. Сиринелли вводит в свой методологический инвентарь «теорию поколений», говоря о том, что интеллектуал всегда определяет себя в отношении к некоторому наследию прошлого – или как законный наследник, или как «блудный сын», отрицающий «отцов» [ Sirinelli , 1987, p. 4–6]. Поколения определяются не по принадлежности к единой возрастной группе, но по общности пережитого коллективного опыта важного исторического события, к примеру, войны в Алжире [ Sirinelli , 1988, p.8–19]. Тем самым подчеркивается принципиальность выявления каналов передачи «традиции» и элементов «разрыва», а также прямой или косвенной референтности. Разрывы между поколениями могут принимать форму борьбы «отцов и детей», как это случилось с молодыми коммунистами («поколением 1905 г.», как называет их Сиринелли)4, бросившими интеллектуальный вызов своим «буржуазным и устарелым» университетским профессорам, или форму политического вызова против устоявшихся институтов – то же поколение металось между фашизмом и коммунизмом, разочаровавшись в основах парламентской демократии.
М. Винок добавляет к аппарату Сиринелли категорию «интеллектуальное поколение», атрибутами которого являются тип образования (заложенный в школьных программах, реформах средней и высшей школы, элитарной или эгалитарной системе высшего образования); «дух времени», отражающий коллективные оптимистичные или пессимистичные настроения, которые возникают под влиянием демографической, политической и социальной конфигурации конкретного периода; содержание поля культурного потребления – романы, фильмы, значимые философские тексты [ Wi-nock , 2011, p.11–14]. Выстраивая хронологию истории французских интеллектуалов XX в., Винок выделяет следующие политические события, сформировавшие «интеллектуальные поколения»: дело Дрейфуса (1894–1906), Агадирский кризис (1911), Первую мировую войну (1914–1919), кризис межвоенных лет (1920–1939), период Сопротивления и режима Виши (1940–1945), эпоху холодной войны, войну в Алжире (1954–1962), майские события 1968 года и период утверждения левых у власти («поколение Миттерана»).
Как можно заметить, внимание историков политической школы было сосредоточено на исторических отрезках, отмеченных наиболее активным участием интеллектуалов в политике, в коллективном труде – издании «Словаря французских интеллектуалов». Составители его Ж. Жуяр и М. Винок обосновывают выбор имен, вошедших в словарь, участием интеллектуала в политике: «только понятие (политической. – Д. П. ) ангажированности (engagement) позволяет назвать ученого, писателя или художника интеллектуалом» [ Juillard, Winock , 2009, p.12].
Социальная история интеллектуалов: логика поля
В 1960–1970-х гг. «поворот» к восприятию и применению методов и теорий социальных наук коренным образом изменил ландшафт исторической науки, на котором длительное время безраздельно господствовали социальная и экономическая история школы «Анналов». Изменились и привычные отношения между историей и общественными науками: если первая прежде рассматривалась как база эмпирических фактов, на основе которых социальные науки могут строить свои теории, то теперь социальные науки стали «поставщиками теоретических концептов для историков» [ Савельева , 2015, с.17].
Образцом такого рода «стратегии присвоения» явилось применение К. Шарлем теории социальных полей П. Бурдьё и категориального аппарата социологии элит при изучений истории возникновения французских интеллектуалов в конце XIX в. В начале 1970–х гг. на молодого историка произвел впечатление курс, который Бурдьё читал для студентов Высшей нормальной школы, и эвристические возможности использования категорий литературного, политического и других «полей», культурного, символического и другого «капитала», «господства». По словам Шарля, Бурдьё был социологом, более других увлеченным историей. К ней он обращался с целью конструирования и проверки своих теоретических построений, изучая литературное, художественное или политическое поле, характеризующееся конкурентной борьбой агентов за доминирующие позиции [De la littérature à l’histoire..., 2015,p. 76].
По мнению Шарля, подход Ж.-Ф. Сиринелли и Ори замыкает проблему категории интеллектуала в узких рамках политической истории. Он не согласен с Сиринелли в том, что интеллектуал – это политический феномен и как таковой он впервые реализует свою функцию защитника универсальных ценностей во время дела Дрейфуса. По Шарлю, интеллектуалы – это социальная категория, а не политическое понятие. В работе «Рождение интеллектуалов» он попытался вписать эту категорию в более широкий контекст политического поля Третьей республики и логику трансформации социального комплектования доминирующих элит [ Charle , 1990, p.10]. Осмысляя появление интеллектуалов в терминах борьбы за символическое господство, Шарль делает вывод о том, что в основе политического конфликта между сторонниками справедливости и оправдания Дрейфуса и их оппонентами лежат не идеологические разногласия, а стремление занять доминирующую позицию в литературном поле (у первых) и удержать свои позиции (у вторых).
Концепции Бурдьё он применяет при изучении кризиса литературного поля, имевшего место между 1865 и 1900 гг., вызванного резким увеличением числа публикующихся интеллектуалов: они переполнили рынок литературной продукцией при отсутствии роста числа читающей публики [Charle, 1975]. Кризис породил раскол в литературной среде, где за доминирование боролись обладатели более весомого культурного капитала (члены Академии и ведущих журналов) и новое поколение стремящихся к социальному и экономическому успеху писателей (Эмиля Золя и писатели-натуралисты). Этим противоборством определяется распределение интеллигенции по двум полю- сам, возникшим в связи с делом Дрейфуса. И, по мнению Шарля, именно этому кризису история обязана появлением интеллектуала как социального феномена [Шарль, 2005, с. 12–13].
По Шарлю, интеллектуал появляется в момент структурной перестройки интеллектуального поля и его способов функционирования: увеличение числа интеллектуальных профессий и повышение общего уровня образования благодаря реформам Ж. Ферри 1881–1882 гг. запустили процесс оспаривания прежних культурных иерархий. Если на протяжении всего XIX столетия только великий писатель или художник имели статус и признание в обществе, то к концу века рост их количества приводит к потере символического капитала. В отличие от писателя, пишущего для себя самого и признающего суждения лишь равных себе [ Bourdieu , 1971, p.55–57], интеллектуал свою легитимность и статус «приобретает только коллективно… в его случае количество становится силой» [ Charle , 1990, p.63], а также формирует новую социальную коллективную идентичность через механизмы взаимного признания. Сплотившись вокруг фигуры известного писателя Э. Золя, интел-лектуалы–дрейфусары смогли совершить революцию, перенеся расстановку сил с литературного поля на политическую борьбу, сделав их изоморфными.
В основе метода Шарля, таким образом, лежит анализ позиции, занимаемой интеллектуалом в социальной структуре определенной эпохи, а также его места в поле интеллектуального производства и способов символической репрезентации, осмысленных в терминах политической борьбы [ Шарль , 2005, с.167]. Шарль формулирует три основных вопроса, которые должен поставить историк при исследовании феномена в других национальных модальностях: 1) какова степень автономии интеллектуального поля; 2) каковы отношения между интеллектуальным полем и полем власти; 3) какова конфигурация доминирующих/доминируемых позиций интеллектуалов в рассматриваемом поле.
Преодоление противоречий и новые перспективы
Изначально рассматривавшиеся как конфликтные, подходы социальной и политической истории стали восприниматься как дополняющие друг друга для обеспечения полноценного изучения феномена французского интеллектуала [ Prochasson , 1992, p.423–424]. За более чем тридцать лет существования история интеллектуалов успела стать процветающим направлением и произвести на свет множество оригинальных исследований, в основе своей наследующих методологии политической [Chebe ld’Appolonia,1992; Racine, Trebitsch, 1992] и социальной [ Reiffel , 1993] истории интеллектуалов. Взаимоотношения интеллектуалов и социалистической идеологии изучал К. Прошассон, он же использовал «поколенческий» подход, рассматривая политическую ангажированность интеллектуалов в период Первой мировой войны [ Prochasson , 1993, 1997; Prochasson, Rasmussen , 1996]. Будучи учеником Сиринелли, он отталкивался от концепции «мест, кругов и сетей», но расширял арсенал методов, обращаясь к истории репрезентаций.
У социологического подхода также нашлось множество сторонников. С использованием опробованного К. Шарлем метода анализа «полей» и борьбы за доминирование в русле исторической социологии была написана история журнала «Socialisme ou Barbarie», включая практики политического действия членов социалистического интеллектуального авангарда в 1950–1960-х гг. [ Gottraux , 1997]. Методология Бурдьё стала активно развиваться представителями социологической науки, создававшими самостоятельное направление – социологию интеллектуалов . Яркой представительницей этого направления является Ж. Сапиро, исследующая формирование общеевропейского рынка переводов, отношения экспорта–импорта культурной продукции в контексте интернационализации интеллектуальных полей в Европе, а также типологии взаимодействия интеллектуалов и политического поля [ Sapiro , 1999, 2009]. Проблематика интеллектуалов в контексте организации художественных профессий в условиях рынка рассматривается в работах представителей социологии профессий [ Menger , 2009] и социологии искусства [ Heinich , 2005].
Однако исследователи нового поколения отмечают, что, несмотря на тенденцию к сочетанию исторических и социологических подходов, баланс междисциплинарности пока не достигнут. Рассматривая интеллектуала как политического и социального субъекта, оба направления пренебрегают обращением к текстам научных, философских и художественных трудов. Игнорирование содержания работ интеллектуалов при изучении их отношений с «институтами» и «архивом» (в терминологии М. Фуко) является явным недостатком указанных направлений [Chaubet, 2009, p.184]. Преодолеть его призвана интеллектуальная история (histoire intellectuelle) – междисциплинарное направление, получившее во Франции импульс развития в начале 1990-х гг. и вобравшее в себя подходы классической истории идей, истории философии, ментальности и культурной истории.
До 1980-х гг. с подачи школы «Анналов» интеллектуальная история была вытеснена за рамки исторической науки и в отличие от бурно развивающейся в англо-саксонской традиции имела маргинальный статус [ Dosse , 2008, p.380–381]. Попытка интеллектуальной истории получить автономный статус привела к историографическим «боям». Главный представитель направления, Ф. Досс, оспаривает утверждение Сиринелли о том, что история интеллектуалов является частью политической и социокультурной истории, рассматривая ее как интегральную часть интеллектуальной истории. В попытках обособления это направление стремится исследовать произведения и их авторов в широком социокультурном контексте, в котором рождались идеи, тексты и интеллектуальные традиции [ Chaubet , 2006], и задает более широкие границы, чем анализ «сетей социа-бельности», сочетая последний с особым вниманием к содержанию самих произведений [ Dosse , 2010, p. 10–11].
Расширяя методологический арсенал интеллектуальной истории, Ф. Шобе отмечает необходимость применения методов кембриджской школы, а именно дискурс-анализа, для исследования рецепции произведений, циркуляции и восприятия идей и текстов. Плодотворным может быть и изучение практик аргументации и позиционирования интеллектуалов в спорах и столкновениях5. По Шобе, представители интеллектуальной истории должны принимать во внимание отношения между интеллектуальной продукцией и политическими и социальными реалиями, характеризующими отдельную эпоху, используя диахронический и синхронический подходы [ Chaubet , 2009, р. 188–189].
Еще одним плодотворным направлением дисциплинарной эволюции истории интеллектуалов может стать сравнительная история интеллектуалов. Уже к концу 1990–х гг. М. Требитч констатирует, что методологические противостояния, на которых складывалась конфигурация дисциплины, в некоторой степени исчерпали свои продуктивные возможности, в связи с чем необходимо обратиться к сравнительной истории интеллектуалов и преодолеть ловушку «франко-французской» оптики [ Trebitsch, Granjon , 1998, p.11–12]. Очевидным недостатком французской истории интеллектуалов является практически тотальное игнорирование зарубежных подходов и авторов. К примеру, метод поколенческого анализа и структур социабельности Ж.-Ф. Сиринелли разрабатывал без единой отсылки к главным теориям немецких ученых – К. Мангейма и М. Вебера, не говоря об англо-саксонской сетевой теории ( network theory ) Р. Коллинза.
К. Шарль, первым обратившийся к сравнительной перспективе [ Charle ,1996], настаивает на национальной специфичности французского понятия «интеллектуал» и ее непереносимости на другие почвы [ Шарль , 2005, с.24–25]. Но изучение национального характера феномена в терминах национальных историографий противоречит сближению, предполагаемому сравнительным подходом [ Dosse , 2003, p.132]. Архетип национальной фигуры французского интеллектуала порождает в транснациональной перспективе одновременно идеологический и историографический спор. Ряд традиций (Канады, Южной Европы и Латинской Америки) восприняли модель интеллектуала-универсалиста дрейфусарского типа в качестве эталонной для применения на национальном материале, пренебрегая собственной историей феномена и его идентичности [ Trebitsch , 1997, p.143– 145]. Более того, предлагаемый Шарлем анализ интеллектуалов как социальной группы соответствует французскому историческому контексту и может не подходить для других национальных общностей, где, к примеру, интеллектуальная элита была разбросана по всему миру [ Dosse , 2003, p.133].
Видя в компаративном подходе один из путей к пониманию глобальной истории современности, а также к созданию общеевропейского исследовательского пространства, М. Требитч указывал на возможность «взаимного трансфера проблематик», сравнительного изучения понятия «интеллектуал» на французской и центрально-европейской почве. В сборнике «За сравнительную историю интеллектуалов» предпринята попытка возвращения «интеллектуала» на национальную почву. Коллектив авторов обращается к таким проблемам, как конструирование национальной и транскультурной идентичности интеллектуала еврейского происхождения в художественной литературе, влияние гегемонии английского языка и культуры на борьбу интеллектуалов Индии за независимость от метрополии, рассмотренное в русле колониальной истории [ Trebitsch, Granjon, 1997, p. 125–140, 141–162].
Подводя итог рассмотрению основных опорных точек французской истории интеллектуалов, следует отметить, что появление новых теоретических тенденций в субдисциплине свидетельствует о неисчерпанности ее эвристических возможностей. Преодоление самореферентности и большая открытость к методологическим подходам других национальных традиций может расцениваться как позитивный шаг в эволюции этого направления. Выработанные французскими историками в последнее тридцатилетие методы и теоретические подходы могут быть успешно применимы в российских исследованиях.
Список литературы История интеллектуалов во Франции: конфликт интерпретаций и новые перспективы
- Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011. 560 с
- Савельева И.М. Стала ли история социальной наукой? Энергичные объятия сциентизма // Диалог со временем. 2015. № 50. С. 9-33
- Шарль, К. Интеллектуалы во Франции. М.: Нов. изд-во, 2005. 328 с
- De la litterature a l'histoire, un parcours singulier. Savoir/Agir. 2015. 32 (2). Р. 73-86
- Bodin L. Les Intellectuels. Paris: PUF, 1962. 127 р.
- Bodin L. Les Intellectuels existent-ils? Paris: Bayard Editions, 1997. 202 р
- Bourdieu P. Le marche des biens symboliques // L'Annee sociologique. 1971. 22. Р. 49-126
- Charle C. Naissance des 'intellectuels', 1880-1900. Paris: Les Editions de Minuit, 1990. 272 р
- Charle C. Les Intellectuels en Europe au XIXe siecle: Essai d'histoire comparee. Paris: Seuil, 1996.382 р
- Chaubet F. Enjeu - Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle. Bilan provisoire et perspectives // Vingtieme Siecle. Revue d'histoire. 2009. № 101. P. 179-190
- Chaubet F.Histoire intellectuelle de l'Entre-deux-guerres. Culture et politique. Paris: Nouveau Monde Editions, 2006. 380 р
- Chebel d'Appolonia A. Histoire politique des intellectuels en France, 1944-1954. Vol.2. Le Temps de l'engagement. Bruxelles: Editions Complexe, 1991. 342 р
- De la litterature a l'histoire, un parcours singulier // Savoir/Agir. 2015. Vol. 32. №. 2. P. 73-86
- Delacroix C., Dosse F., Garcia et al. (ed.). Historiographies. Concepts et debats. Paris: Gallimard, 2010.Vol. 1. 656 р. Vol. 2. 688 р
- Dosse F. La Marche des idees. Histoire des intellectuels, histoire intellectuelle. Paris: La Decouverte, 2003. 358 р
- Gottraux P. Socialisme ou Barbarie: Un engagement politique et intellectuel dans la France de l'apres-guerre. Lausanne: Editions Payot Lausanne, 1997. 427 р
- Goulemot J.M., Lindenberg D, Ory P., Prochasson C. Dernieres questions aux intellectuels et quatre essais pour y repondre. Paris: Oliver Orban, 1990. 268 р
- Heinich N. L'elite artiste. Excellence et singularite en regime democratique. Paris: Gallimard, 2005. 270 р
- Julliard J., Winock J. (dir.). Dictionnaire des intellectuels francais: Les personnes. Les lieux. Les moments. Paris: Editions du Seuil, 2009. 1259 p
- Leymarie M. Les intellectuels et la politique en France. Paris: PUF - «Que sais-je?», 2001. 128 р
- Lyotard J.-F. Le Tombeau de l'intellectuel. Paris: Galilee, 1984. 87 р
- Menger P-M.Le travail createur. S'accomplir dans l'incertain. Paris: Seuil, 2009. 667 р
- Ory P., Sirinelli J.-F. Les Intellectuels en France, de l'Affaire Dreyfus a nos jours. Paris: Armand Colin, 1986. 264 р
- Prochasson C. Histoire intellectuelle / histoire des intellectuels: le socialisme francais au debut du XXe siecle // Revue d'histoire moderne et contemporaine. 1992. T. 39. N.3 (Jul.-Sep.). P. 423-448
- Prochasson C. Les Intellectuels, le socialisme et la guerre, 1930-1938. Paris: Seuil, 1993. 354 р
- Prochasson C.,Rasmussen A. Au nom de la patrie: Les Intellectuels et la Premiere Guerre mondiale (1910-1919). Paris: La Decouverte, 1996. 316 р
- Prochasson C. Les Intellectuels et le socialisme. Paris: Plon, 1997. 298 р
- Racine N., Trebitsch M. (dir.). Intellectuels engages d'une guerre a l'autre // Les Cahners de L'Institut d'Histoire du Temps Present. 1994.№ 26, mars. 220 р
- Reiffel R. La Tribu des clercs. Les intellectuels sous la Ve Republique. Paris: Calmann-Levy, CNRS Editions, 1993. 274 р
- Reiffel R. La Tribu des clercs. Les intellectuels sous la Ve Republique. Paris:Calmann-Levy, CNRS Editions, 1993. 696 p
- Rioux J.-P., Sirinelli, J.-F. (dir.). La Guerre d'Algerie et les Intellectuels francais // Les Cahiers de l'IHTP. 1988. 10. 260 p
- Sapiro G. La guerre des ecrivains, 1940-1944. Paris: Fayard, 1999. 807 р
- Sapiro, G. Modeles d'intervention politique des intellectuels: le cas francais // Actes de la recherche en sciences sociales. 2009/1. N 176-177. P. 8-31
- Sirinelli J.-F. Le hazard ou la necessite? Une histoire en chantier: l'histoire des intellectuels // Vingtieme siecle. Revue d'histoire. 1986. N 9 (janvier-mars). P. 97-108
- Sirinelli J.-F. Effets d'age et phenomenes de generation dans le milieu intellectuel francais // Generation Intellectuelle. Cahiers de l'IHTP. 1987. N 6. Novembre. Р. 5-18
- Sirinelli J.-F. Generation intellectuelle. Khagneux et normaliens dans l'entre-deux-guerres. Paris: Fayard, 1988
- Sirinelli J.-F. Alain et les siens. Sociabilite du milieu intellectuel et responsabilite du clerc // Revue francaise de science politique, 38е annee. 1988. N 2. P. 272-283
- Sirinelli J.-F. La Guerre d'Algerie et les Intellectuels francais. Les Cahiers de l'IHTP. 1988.N10, novembre. 722 р
- Sirinelli J.-F. La fin des intellectuels francais? // Revue europeenne des sciences sociales.1990. T. 28, No. 87, Les Intellectuels: declin ou Essor: VIe colloque annuel du Groupe d'Etude "Pratiques Sociales et Theories". P.153-161
- Sirinelli J.-F. Intellectuels et passions francaises. Manifestes et petitions au XXe siecle. Paris: Fayard, 1990. 372 р
- Sirinelli J.-F. Jeux des miroirs // L'intellectuel et ces miroirs romanesques: 1920- 1960. Lille: Presses Universitaires de Lille, 1993. P.13-18
- Sociabilites intellectuelles: lieux, milieux, reseaux // Les Cahiers de l'IHTP. 1992.20, mars
- Trebitsch M. Intellectuels et societe //Vingtieme Siecle. Revue d'histoire. 1997. N 55,juillet-septembre. P.143-145
- Trebitsch M., Granjon M.-C. (dir.). Pour une histoire comparee des intellectuels. Bruxelles: Complexe, 1998. 176 р
- Trebitsch M. Pour en finir avec l'histoire des intellectuels // Institut Memoires de l'Edition contemporaine, 100 ans de rencontres intellectuelles de Pontigny a Cerisy. Cerisy-la-Salle, 2005. Р.19-33
- Winock M. L'Effet de Generation. Une breve histoire des intellectuels francais. Paris: Editions Thierry Marchaisse, 2011. 162 р