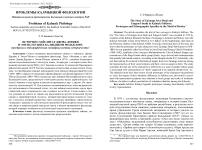История о зайсангах Джова-Дорджи и Эмген-Убуши в калмыцком фольклоре: прообразы и этнографическая специфика мотива соперничества
Автор: Бакаева Эльза Петровна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Проблемы калмыцкой филологии
Статья в выпуске: 2 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению сюжета о зайсангах Джова-Дорджи и Эмген-Убуши в калмыцком фольклоре. Текст «История о двух зайсангах Джова-Дорджи и Эмген-Убуши» записан в 1974 г. учеными Калмыцкого научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ныне Калмыцкий научный центр РАН) у Н.С Балеева в совхозе Сухотинский Приозерного района Калмыцкой АССР. В статье выявлена историческая основа сюжета. Показано, что прообразами главных персонажей стали зайсанги Дорджи-Джаб Кутузов (1850-1889; в народе его именовали Джова-Дорджи или Джава-Дорджи) и Эмген-Убуши Дондуков (1840-1902), владельцы двух аймаков Малодербетовского улуса Калмыцкой степи, представители этнической группы малых дербетов (калм. 6ah дврвд), жившие в одно время и реально встречавшиеся друг с другом. По свидетельству монголоведа К. Ф. Голстунского, познакомившегося с ними во время своего исследования в Калмыцкой степи, эти два зайсанга выделялись среди представителей своего социального слоя, и равных им не было. Сделан вывод о том, что указание на одного из героев как представителя другой этнической группы связано с характеристикой «чужого», который пространственно отдален от «своих». Сказитель, который должен был знать о реальных прообразах героев сюжета, «повышает» уровень их субэтнического различия. В фольклорном тексте этот мотив связан с репрезентацией локальных групп и кодами прозвищного фольклора, который отражает особенности субэтнической идентичности калмыков.
Фольклор, калмыцкие предания, прообразы, зайсанг, локальная идентичность, мотив соперничества, репрезентация
Короткий адрес: https://sciup.org/149140457
IDR: 149140457 | DOI: 10.54770/20729316-2022-2-346
Текст научной статьи История о зайсангах Джова-Дорджи и Эмген-Убуши в калмыцком фольклоре: прообразы и этнографическая специфика мотива соперничества
В 1974 г. состоялась фольклорная экспедиция Калмыцкого научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ныне Калмыцкий научный центр РАН) по районам республики, в результате которой сотрудниками были записаны уникальные материалы, пополнившие архив учреждения. Среди сказителей, материалы от которых удалось записать фольклористам, был Балеев Ноха Санчирович (1907 г.р.) из совхоза Сухотинский Приозерного района Калмыцкой АССР: ученые зафиксировали ряд легенд и преданий, сказок: «Эмтэ кел меддг эрдмтэ сон залу» («Мужчина, наделенный способностью распознавать язык живых существ»), «Долан хожИр, нег тужгр» (Семеро плешивых, один коротковолосый»), «ЗарЬин алтн широ» («Золотой трон судьи»), «Нарн Арслц хан Сар Арслц дуутэ» («Хан Наран Арслан, имеющий брата Сар Арслана»),

«Тавн те сахлта Барм евгн» («Старик Бярм, имеющий бороду в пять пядей»), «Цецн куукнэ тускар» («О мудрой девушке»), «Арвн долата Миитр войн» («Семнадцатилетний нойон Миитр») и другие.
Среди текстов, записанных фольклористами Н. Ц. Биткеевым и Б. Б. Оконовым у этого сказителя, выделяется необычностью сюжета, основанного на соперничестве двух князей, фольклорный текст «ЖДва Дорж; болн Эмгн Овш хойр зээсцгин туск тууж» («История о двух зайсан-гах — Джова-Дорджи и Эмген-Убуши»),
Цель статьи — выявить историческую основу калмыцкого фольклорного текста о двух зайсангах и проанализировать мотив их соперничества в аспекте проблемы «свой» и «чужой» и репрезентации локальных идентичностей.
Основная часть
Сюжет. «Истории о двух зайсангах—Джова-Дорджи и Эмген-Убуши»
Фольклорный текст, названный сказителем историей, краток. Он повествует о двух представителях калмыцкой аристократии, зайсангах-правителях аймаков (административных единиц в калмыцкой степи, частей улуса), о которых говорится, что они были двумя зайсангами нутука, то есть кочевья. Нутук (калм. нутг) — это родное место, родина, кочевья, территория. В данном фольклорном тексте под нутуком понимается территория кочевания этнической группы калмыков-дербетов, дербетский улус как родина определенной группы людей, которой управляют, как говорит сказитель, зайсанги, а также их сановники-тушимелы. Сказитель приводит сведения об их разной локальной идентичности: «Жова Дорж; — 6ah дорвдэ 399сц, Эмгн Овш — ик дорвдэ зээсц бээсн» [ЖДва Дорж; болн Эмгн Овш] — «Джова-Дорджи был зайсангом у малых дербетов, Эмген Убу-ши— у больших дербетов».
Один из зайсангов сказителем характеризуется уже в зачине, он называется не просто по имени, а Дапжл Эмгн-Убуши, таким образом, отмечаются его богатство и занятия торговлей либо выдачей товаров под залог (калм. данж;х — закладывать, отдавать в заклад, выдавать товар под залог [КРС 1977, 182]).
Основное действие начинается с предложения Джова-Дорджи отдать два озера — Дунд-нур (букв. «Среднее озеро») и Ар-нур (букв. «Северное озеро») — в пользование беднякам, чему противится Эмген-Убуши, утверждающий, что он и ранее владел этими озерами и потому не должен отдавать их кому-либо, и отмечающий, что такие вопросы способно решать только собрание нутука. Однако Джова-Дорджи напоминает этому владельцу, что они, как зайсанги, живут тем, что их подвластные отрабатывают повинности (калм. алв). Поскольку сам Эмген-Убуши не использует озера в хозяйственном отношении, а также из-за того, что пропадает камыш, произрастающий на их берегах, владельцу аймака вновь предлагается передать озера бедному населению. Спор зайсангов переходит к обсуждению обездоленных. Джова-Дорджи говорит Эмгену-Убуши, что бедные — такие же, как они, люди, они страдают от нехватки пропитания. Сказитель отмечает, что в результате спора между зайсангами зарождается вражда.
Далее в истории о двух зайсангах сообщается, что Джова-Дорджи был отравлен, находясь в Астрахани на некоем заседании. Умер Джова-Дорджи в дороге, не добравшись до своего нутука-кочевья (родины), и о нем была сложена песня:
|
Ыюж;ар гуудг курен харнъ Бучрлсн толкаднь. Бут^гу дуута Жрва Дорж; Бучрлсн толкаонь оцгрв. [Жрва Дорж болн Эмгн Овш]. |
Подхлестываемые три вороных коня, бежавшие [в упряжке], [Достигли] покрытого листвой кургана. Джова Дорджи, у которого потускнела (стала неясной) речь, Умер на покрытом листвой кургане. |
Вторая часть истории о двух зайсангах повествует о продолжении начатого зайсангами спора их сановниками-тушимелами, которые упорно продолжали дискутировать, прославляя своего аристократа и очерняя другого.
В конце истории сказитель, говоря о продолжающемся споре, сообщает: тушимел зайсанга Джова-Дорджи обвиняет сановника другого зайсанга в том, что он «закрыл деньгами» владельца свои глаза, «золотом рот закрыл» — вот откуда льстивые речи. Характеризует же он соперника-зайсанга как бледного, обладающего слабой жизненной силой, пустого внутри, не принимающего то, что может его улучшить. Сказитель заключает: неудержим был тушимел, выискивал самое плохое, обвиняя другого сановника в восхвалении правителя его аймака, несоответствующем реалиям [ЖДва Дорж; боли Эмгн Овш].
Таким образом, история о двух зайсангах включает сюжет об их споре, продолжившейся словесной перебранке двух сановников-тушимелов, а также сообщение об отравлении одного из зайсангов и его ранней смер-
ти, что осталось зафиксировано в песне.
Прообразы фольклорных персонажей
Краткий фольклорный текст, записанный во второй половине XX в., не содержит подробностей. Однако указание на принадлежность двух за-йсангов к дербетскому нутуку, локализация событий и имена зайсангов позволяют выявить прообразы персонажей «Истории о двух зайсангах...».
Предметом спора в рассказе сказителя выступают два озера, Дунд-нур (букв. «Среднее озеро») и Ар-нур (букв. «Северное озеро» или «расположенное позади» озеро; смысл этого названия — «находящееся к северу», что становится понятно, если учитывать калмыцкую традицию считать стороны света, исходя из позиции стоящего в кочевом жилище лицом ко входу, который располагался на юге. Соответственно «передняя» (калм. омн) сторона — южная, «задняя» (калм. ар) сторона — северная, «правая» (калм. барун) — западная, «левая» (калм. зун) — восточная). В калмыцкой степи озера с такими названиями располагались в кочевье дербетского за-йсанга Эмген-Убуши Дондукова. Так, К. Ф. Голстунский во время своей поездки в Калмыцкую степь Астраханской губернии летом 1886 г. описывал часть пути по кочевью этого зайсанга: «Следующая станция, в 20 в[ерстах], лежит на берегу высохшего озера Ару нур (заднее, или северное, озеро). Отсюда поехали по долине, усеянной целым рядом озер, в 8 верстах от Ару нура Дунду нур (среднее озеро), а еще далее в 7 верстах Омнб нур (переднее, или южное, озеро). На берегу этого последнего озера находится каменный дом со службами здешнего зайсанга Дондукова. Невдалеке от дома разбит принадлежащий тому же зайсангу сад и разведен огород, все содержится в большом порядке. Здесь я уже нахожусь в южной, так называемой Манычской части Малодербетовского улуса <...> до следующей станции 18 верст. <...> Станция называется Икэ чонос от имени рода кочующих здесь калмыков» [Голстунский 2014 а, 79]. Таким образом, имя персонажа в фольклорном тексте и названия озер в его владении полностью совпадают с именем зайсанга Эмген-Убуши Дондукова, управлявшего территорией, на которой располагались одноименные озера; и фольклорный герой, и реальное лицо являлись правителями аймака в кочевьях калмыков-дербетов, что позволяет сделать вывод: прообразом персонажа Эмген-Убуши может являться зайсанг Э.-У. Дондуков (1840-1902), управлявший калмыками-дербетами этнической группы бага-чоносов (калм. 6ah чонс). Единственным отличием является указание сказителя в фольклорном тексте на то, что Эмген-Убуши-зайсанг из Большедербетовского улуса, а Э.-У. Дондуков был из Малодербетовского улуса (эта особенность будет рассмотрена далее).
Согласно родословной, составленной отцом Эмгена-Убуши Дондукова Занджином, их род восходил к владельцу Хошучи, управлявшему бага-чоносовским аймаком еще в период кочевания его в Центральной Азии, и Басу, приведшему своих подвластных с Алтая на Волгу в XVII в. [Ми- тиров 1998, 316]. В 1869 г. Управление калмыцким народом назначило Эмген-Убуши Дондукова опекуном бага-чоносовского рода. В 1873 г. он был назначен Министерством государственных имуществ управляющим калмыками по реке Маныч, а в 1875 г. предписанием Управления госи-муществ — старшиной ики-чоносовского рода. Назначался Э.-У. Дондуков в 1881 г. управляющим Малодербетовским улусом, в 1883 г. был освобожден от этой должности; в том же году по решению улусного органа Зарго утвержден бага-чоносовским аймачным зайсангом. В 1885 г. он стал чиновником особых поручений VIII класса при Управлении госи-муществ по Астраханской губернии, а также назначен корреспондентом Главного управления государственного коннозаводства по Калмыцким степям с присвоением VI класса по должности. Э.-У. Дондуков имел чин губернского секретаря. Зайсанг был неоднократно отмечен высокими наградами: в 1871 г. и в 1879 г. награжден серебряными медалями для ношения на Станиславской ленте с надписью «За усердие», в 1878 г. ему было объявлено императорское благоволение, в 1883 г. он был отмечен золотой медалью для ношения на Андреевской ленте с надписью «За усердие», тогда же — бронзовой медалью для ношения в петлице на Александровской ленте. Согласно его формулярному списку, хранящемуся в Национальном архиве Республики Калмыкия, он был также «удостоен подарка в виде серебряной вызолоченной кружки с именной надписью “Зайсангу Малодербетовского улуса Эмген-Убуши Дондукову от Его Императорского величества. 14 января 1880 года, С.-Петербург”». В 1886 г. награжден орденом Святого Станислава третьей степени, в 1891 г. — орденом Святой Анны третьей степени [Митиров 2002 а, 80-83].
Зайсанг Дондуков явился одним из первых представителей частного коннозаводства, он организовал «по предложению Главного управления государственного коннозаводства (ГУГК) “рассадник” лошадей калмыцкой породы в урочище Эмне-Нур “для улучшения ими степного коневодства”» [Команджаев 1999, 80], посещал конные ярмарки не только в Астраханской губернии, но и в Области Войска Донского, в Саратовской и Ставропольской губерниях, где калмыки продавали скот [Батыров 2016, 26-27], поставлял своих лошадей на выставки [Алексеева 2001]. Э.-У. Дондуков стал одним из трех наиболее крупных скотопромышленников Калмыцкой степи наряду с Ц. Д. Онкоровым и М. Л. Цембилевым: так, в 1899 г. у него было только лошадей 1292 головы [Команджаев 1999, 157].
В народной памяти Эмген-Убуши остался как основатель первой аймачной школы среди калмыков родов бага-чонос, как устроитель больших фруктовых садов, тополиной рощи, а также пруда, в котором разводили рыбу. В его имении, включавшем ряд построек, выделялся двухэтажный дом (большая редкость для кочевников-калмыков конца XX в.), сохранившийся до наших дней [Митиров 2002 а, 83].
Память об Эмген-Убуши Дондукове среди калмыков, расселенных на территории, которая ранее относилась к его аймаку, сохраняется до настоящего времени, о чем свидетельствует текст, размещенный на страни-
це туроператора: «В Целинном районе немало мест, овеянных легендами, хранящих следы ушедших эпох, в которых тесно переплелись исторические события и судьбы людей. Одно из них — бывшее имение малодербе-товского зайсанга Эмген-Убуши Дондукова. Это двухэтажное здание в местечке Годжур, что в двух километрах от поселка Аршан Булг, сохранилось до наших дней. По документам название этого населенного пункта— пос. Дубравный. Это местечко славилось своими садами, посаженными в XIX в. зайсангом Дондуковым, протянувшимся на многие километры. Здесь росли фруктовые сады и тополиная роща, имелся огород, устроен пруд, в котором водилась рыба. Эмген-Убуши Дондуков, аймачный за-йсанг Бага-Чоносовского рода, благодаря своей активной деятельности на различных поприщах добился в жизни больших успехов. Его знали при царском дворе — Дондуков был поставщиком лошадей для кавалерии Его Императорского величества. За годы службы он был удостоен многих наград...» [Целинный район].
Если прообраз одного из персонажей выявлен, то следует провести поиски прообраза второго персонажа фольклорного текста. И в этом случае нельзя не обратить внимание на тот факт, что в реальной жизни сопоставимым с личностью Эмген-Убуши Дондукова был лишь один калмыцкий зайсанг. Как писал К. Ф. Голстунский, «в среде зайсангов здешних выдающееся место занимают спутник наш г. Кутузов и Дондуков <.. .> Другие зайсанги здешние не отличаются такими особенными качествами и вообще мало чем выделяются» [Голстунский 2015, 71]. Ясно, что достойным соперником Э.-У. Дондукову, в том числе в споре по экономическим вопросам (каким являлся вопрос о передаче двух озер в пользование беднякам в рассматриваемой истории о двух зайсангах) мог явиться только Д.-Д. Кутузов.
Действительно, в образе зайсанга Джова-Дорджи (калм. Жрва Дорж) вполне можно видеть младшего сына зайсанга Абганер-Кетченеровского аймака Малодербетовского улуса Джаба Кутузова — Дорджи-Джаба, которого, как отмечает П. Э. Алексеева, в народе звали “Джаава нойон”, "Жрава зээс^" [Алексеева 2003, 42; Алексеева 2010, 61]. В опубликованном тексте песни об этом зайсанге он назван «ДлД dorzT» [Ramstedt 1962, 90] — Джова-Дорджи.
Дорджи-Джаб Кутузов (1850-06.08.1889) являлся «безаймачным зайсангом», поскольку был вторым сыном, а управление аймаком переходило по принципу майоратного наследования старшему. Он был образован, закончил училище в Астрахани, служил в Калмыцком управлении [Алексеева 2010, 61]. В 1856 г. помогал собирать материалы монголоведу К. Ф. Голстунскому в период его поездки для изучения калмыцкого языка, сбора фольклора и письменных памятников, после чего ученый рекомендовал его на восточный факультет Санкт-Петербургского университета для преподавания калмыцкого разговорного языка [Алексеева 2010, 61]. С 1863 г. (сменив умершего в этом году Галсана Гомбоева, преподававшего на восточном факультете монгольский язык и изучавшего этнографию монгольских народов) и до 1866 гг. Д.-Д. Кутузов работал преподавателем на кафедре монгольской и калмыцкой словесности в Санкт-Петербургском университете, затем отправился в Бурятию, побывал на севере Монголии, некоторое время проживал в Урге (Монголия) [Веселовский 1896 Ь, 361— 362; Кутузов Дорджи]. В 1885 г. он возвратился в Санкт-Петербургский университет, где срочно требовался знаток монгольских языков после выхода в отставку Н. Н. Дорджиева, преподававшего на восточном факультете бурятский язык и переводы с русского на монгольский [Веселовский 1896 а, 238]. Д.-Д. Кутузов занял должность преподавателя, но в 1887 г. был вынужден вернуться на родину по причине ухудшения здоровья, не выдержав климата северной столицы. В последующие годы оказывал помощь в проведении сотрудниками Санкт-Петербургского университета экспедиций в калмыцкой степи [Веселовский 1896 Ь, 362], в 1886 г. сопровождал в поездке по Калмыкии К. Ф. Голстунского [Голстунский 2014 а; Голстунский 2014 Ь; Голстунский 2015]. После кончины брата, управлявшего аймаком, с 1873 г. Дорджи-Джаб Кутузов стал осуществлять управление Абганер-Кетченеровским аймаком [Митиров 2002 Ь, 91-92], его имение располагалось в урочище Амта-Бургуста [Голстунский 2014 а, 80]. Но зайсанг Д.-Д. Кутузов рано умер — б августа 1889 г, будучи в Астрахани. В доме зайсангов Кутузовых в Амта-Бургусте с 1885 г. располагалась Абганеровская народная школа, позднее вдова зайсанга, народная учительница О. А. Кутузова предоставила их дом для размещения в нем миссионерской школы-приюта для детей крещеных калмыков [Республика Калмыкия 2019, 583-584], где работали окончившие Астраханскую миссионерскую школу учителя Бровкин и Ш. Болдырев, позже и сама О. А. Кутузова [Алексеева 2003, 44; Отчет Астраханского Епархиального Комитета 1899, 308-309].
К. Ф. Голстунский оставил характеристику Д.-Д. Кутузова как «человека, по-видимому, развитого, (36 л.) в настоящее время слушающего даже курс в СПб. Университете», отметил возраст своего помощника, благодаря чему можно восстановить его год рождения— 1850 г. [Голстунский 2015, 69].
Кутузов и Дондуков, разница в возрасте которых была 10 лет, были, несомненно, знакомы. Во-первых, их аймаки располагались неподалеку друг от друга. Во-вторых, об этом мы находим свидетельство у К. Ф. Голстунского, который, описывая проведение калмыцкого праздника Урс cap в Ульдючинах, пишет, что в местном хуруле собралась калмыцкая аристократия Малодербетовского улуса, в том числе князь Тундутов, княгиня Дугарова, зайсанги, среди которых выделяются Д.-Д. Кутузов и Э.-У. Дондуков [Голстунский 2015, 70-71].
Таким образом, основанием для признания Эмгена-Убуши Дондукова прообразом зайсанга Эмгена-Убуши из фольклорного текста является: общее имя, статус правителя аймака, совпадение топонимов в его владении, статус богатого владельца, общая субэтническая идентичность (дер-бет). Основанием для определения Дорджи-Джаба Кутузова прообразом
фольклорного героя Джова-Дорджи является его сходство с именем героя второго имени зайсанга — Джаава / Джова-Дорджи, статус правителя ма-лодербетовского аймака, сходство его судьбы с судьбой персонажа (умер по дороге из Астрахани), популярность среди простого населения, а также сходство основной линии песни из «Истории о двух зайсангах...» с песней о Д.-Д. Кутузове (о этом подробнее в следующем разделе).
Мотив соперничества в «Истории о двух зайсангах...» и дихотомия «свой» и «чужой»
Персонажи рассматриваемого фольклорного сюжета могут быть соотносимы с прообразами, которые в реальной жизни являлись заметными фигурами среди калмыцкой аристократии и, по свидетельству очевидца, «выделялись» среди всех других правителей аймаков. Мотив соперничества в фольклорном тексте имеет под собой основу — исторические реалии. Оба зайсанга, Дорджи-Джаб Кутузов и Эмген-Убуши Дондуков, имели вес в калмыцком обществе и являлись представителями чиновничества. Вместе с тем первый был связан и с научной интеллигенцией [Веселовский 1896 Ь, 361-362], второй — с формировавшейся буржуазией [Команджаев 1999, 157], что не могло не отразиться на различии их взглядов на общество и впоследствии стать причиной разногласий. Так, личность Эмген-Убуши Дондукова, успешно занимавшегося государственными делами и отмеченного царскими наградами, была неоднозначной, что отражено в характеристике, данной ему А. Г. Митировым: «Плодотворная общественная деятельность Э.-У. Дондукова продолжалась без малого тридцать лет. 19 ноября 1898 года он был уволен со службы приказом. Правда, этому способствовали поступавшие жалобы на то, что Дондуков, занимая высокое положение, пользуясь покровительством высоких особ, злоупотреблял своим положением — захватывал пастбищные угодья других аймаков и т.д. В записке, поданной министру земледелия и государственных имуществ, говорилось, что Дондуков проявляет особого рода деятельность в степи, несовместимую со званием чиновника русской службы. Но как бы ни характеризовали этого зайсанга, ясно одно — он обладал незаурядным талантом организатора и энергией активного деятеля и в свое время в калмыцком обществе занимал достойное место» [Ми-тиров 2002 а, 83]. К. Ф. Голстунский также подчеркнул личностные качества Эмген-Убуши: «...кажется, очень гордится своим чином, носит всегда форменную фуражку. Рассказывая о своем пребывании в Петербурге, он уверяет своих слушателей, что вхож ко всем министрам, бывает у них запросто» [Голстунский 2015, 71]. На Э.-У. Дондукова поступали жалобы от бедняков Манычского (т.е. южной части Малодербетовского) улуса в связи с тем, что зайсанг «завладел урочищем Зегиста <.. .>; точно так же он самовольно пользовался урочищами Могота, Ялмата, Мокта и другими, которые травил своим скотом, выкашивал на них сено и др.» [Команджаев 1999, 183]. Эти характеристики прообраза отражены в имени, которым называет сказитель зайсанга — Данжл Эмген-Убуши, отмечая его приоритеты как представителя особого слоя скотопромышленников в калмыцкой степи.
В отличие от него, Дорджи-Джаб Кутузов хотя и являлся чиновником, но был более связан с простым населением. Так, он лично собирал образцы фольклора среди калмыков. Известно, что материалы калмыцких паремий, собранные им и переданные в 1896 г. учителем улусной школы Ш. Болдыревым монголоведу В.Л. Котвичу составили большинство из «громадного числа» записанных в Малодербетовском улусе загадок, пословиц и поговорок. В. Л. Котвич включил в изданную им книгу 202 пословицы, собранные зайсангом Кутузовым [Калмыцкие загадки и пословицы 1905].
Социальный фактор в отношениях двух зайсангов — и в фольклорном тексте, и в реальной жизни — играл важную роль. И в сюжетной линии «Истории о двух зайсангах...» спор главных героев в большей степени отражает не личное соперничество, а социальные отношения в калмыцком обществе, дихотомию «свой» и «чужой» в социальном измерении: представители одного социального слоя — зайсангов — оказываются чужими по отношению друг к другу по причине разных взглядов — несмотря на общность их происхождения и обязанностей в обществе.
В реальной жизни оба зайсанга, которые стали прообразами—а можно предположить, что «История о двух зайсангах...» и есть история об этих двух исторических личностях, — выполняли функции правителей аймаков. Оба способствовали открытию аймачных школ, оба стали известны своими прогрессивными взглядами на преобразование быта калмыков, что выразилось в строительстве выделявшихся среди других домов-усадеб, разбивке садов и др. Но социальные взгляды их различались, что отражено и в бытовании народных песен об одном из них: о Дорджи-Джабе Кутузове остались народные песни, в которых говорится об отношении к нему народа. Сходство текста песни о Д.-Д. Кутузове, зафиксированной Г. И. Рамстедтом у калмыков, с текстом песни о Джава-Дорджи из «Истории о двух зайсангах...» свидетельствует о том, что не только прообраз, но и герой рассматриваемой истории мог быть Дорджи-Джабом Кутузовым.
Приведем текст песни о Д.-Д. Кутузове, чтобы показать сходство содержания песни с текстом, включенным в «Историю о двух зайсангах...».

|
Песня о Дорджи-Джабе Кутузове (по публикации [Алексеева 2003, 43]; в этой работе текст дан в переложении на кириллицу) |
Текст № 46 (по публикации [Ramstedt 1962, 90–93]; в этой работе текст дан в транслитерации на латинице и на немецком языке в переводе ; в публикации Г. Й. Рамстедта в нескольких местах стоит вопросительный знак, который мы сохраняем и здесь) |
Перевод на русский язык |
|
Тергени һурвун зер-деень |
Tergenī ɣurbun zerdēn |
Три рыжих скакуна, запряженные в повозку, |
|
Тендәәсин хәләхин темдегтәи |
Tendēsīn xalxaīn temd-eqtēi (?), |
Приметны (?) тем, что с той стороны разгоряченные [прибыли]. |
|
Темдегтәи зәәсң Җоова Дорҗинь |
Temdeqtēi zaisaŋ ǯovǡ doržīn |
Заметный [в обществе] зайсанг Джова Дорджи |
|
Теңгерин оронду очи, |
Teŋgerīn orondu oži (?). |
Отправился в небесную страну. |
|
Эрвәкән делтә һурван зеерде |
Erweŋkēi deltēi ɣurban zerde |
С развевающимися гривами три рыжих скакуна |
|
Элсен довар цевцинәи |
Elsen dowar cabčināi, |
Несутся по песчаным буграм, бьют копытами. |
|
Эке тусетай Цәңкр берген |
Eke (?) tűšуtāi (?) ceŋker bergēn |
Невестка Ценкер хотя и была полезна (помогала) (?), |
|
Элиерин Дорҗ яадава |
Elŋerīn (?) doržī yadabā |
Обессилев, к прародителям (?) Дорджи [отправилась]. |
|
Хойор давхар герен |
xoyor dabxar gerēn |
Двухэтажный дом |
|
Хойор боодогтун дүңгәһәд, (Прим. П. Э. Алексеевой: «В тексте написано “болдогтуин”, правильно будет “боо-догтун” — два пруда» [Алексеева 2003, 43]) |
Xoyor boldoqtun dűŋgēɣad (?), |
Высится у двух прудов. |
|
Хохан чирәтән Ован баваһаи |
Xoxān čirētēi owān bābaɣāi |
Жена Ован со страданием на лице |
|
Хойор көвүһән герәсләд |
Xoyor köbűgēn geresled (?). |
Осталась с двумя сыновьями. |
|
Альмтин адуна һурвн боро |
Alimatīn adūni ɣurbun boro |
Три серых коня из табуна |
|
Ах багшднь бәргдәд, |
Axa baqšidan bariqdǡd, |
Достались старшему багши. |
|
Алтн гегәтә шүтән бурхнь |
Altan gegetei šűtēn burxan |
Божество-шютян с золотым блеском |
|
Аңһлҗур Петкен герәсләд. |
aŋɣalzūr petgen geresled. |
Юному Петру досталось. |
|
Шар харһа гернь |
Sara xaraɣai (?) gerīn |
Дом из желтой сосны |
|
Садни ардньдүңгәһәд, |
Sadīn aradan dűŋgēɣad, |
Возвышается за садом. |
|
Сән залу Җоова Дорҗ |
Saīn zalū (?)ǯovǡ doržī |
Хороший мужчина Джова-Дорджи |
|
Сәәни оронду төртөхәи. |
Saīnin orondu törtöɣǡi. |
Пусть переродится в лучшем из миров. |
В песне, записанной Г. Й. Рамстедтом, поется о Д.-Д. Кутузове, названном ǯovǡ doržī — Джова-Дорджи, так как упоминаются жена зайсанга Ован и его сын Петр. А. Борманжинов, передавший выпуск журнала с публикацией Г. Й. Рамстедта [Ramstedt 1962] в научную библиотеку КалмНЦ РАН, приводит вариант куплета этой песни, называя ее «Джава-Дорджи Кутузов» (он лично вклеил на страницу с текстом статьи [Ramstedt 1962] листок с записанным им вариантом одного из куплетов в транслитерации на латинице и в переводе на немецкий язык, с пометой «Ram 127b», свиде- тельствующей, что этот куплет есть в другом месте у Рамстедта):
|
Dzawa Dordzi Kutuzov |
|
|
46.2. |
|
|
Erwgko delte gurwn zerd |
С развевающейся гривой три рыжих скакуна |
|
Elsn dowarn tsaptsld’na |
Бьют копытами, несутся по песчаным буграм. |
|
Eqkrrer os’ksn Dzawa Dordzi |
Джава-Дорджи, растивший с любовью, |
|
Edmyan jaytxa geksn bi. |
Что сказал, что им делать [теперь]? |
П. Э. Алексеева приводит этот вариант куплета на кириллице: «Эрвэкэ делтэ Ьурвн зеерд / Элси доварнь тавшлдна. / Эцкэр осксн Жаава Дорж; / Эрдниэне яайатха гексум би» [Алексеева 2003, 43].
Этот куплет завершается вопросом-плачем: «Что же делать им, взращенным с любовью Джавой-Дорджи?». Тексты песни свидетельствуют об особой социальной позиции Д.-Д. Кутузова, выступавшего защитником бедного населения, о котором даже говорится, что он их «растил с любовью».
Сопоставление сюжетной линии «Истории о двух зайсангах...», связанной со спором между Джава-Дорджи и Эмген-Убуши, с песенным образом Джава-Дорджи и прообразами двух главных персонажей предания позволяет сделать вывод о том, что дихотомия «свой» / «чужой» в сюжетной линии, связанной со спором двух зайсангов, имеет социальную основу.
В фольклорном тексте, записанном в советское время, прослеживается внимание к популярной в тот период в общественном дискурсе теме «бедные и богатые», обращается внимание на защитника неимущих, заботящегося о своих подвластных, которому противопоставляется скупой богач и его льстивый сановник. Ощущается и намек на тему освоения нового, принятия новых решений, способствующих трансформациям в обществе, — решений, которые, как следует из спора тушимелов, способен был принять один зайсанг и неспособен — другой. Вместе с тем эта тема является не доминирующей, она являет один из аспектов дихотомии «свой» / «чужой».
В фольклорном тексте сюжет спора о судьбе бедного населения и оказании ему содействия со стороны аристократии получает дополнительную коннотацию. Хотя прообразы персонажей истории о двух зайсангах легко вычисляемы, есть один момент, который не соответствует реальной истории. Эмген-Убуши Дондуков и Дорджи-Джаб Кутузов являлись за-йсангами Малодербетовского улуса. Первый из них являлся зайсангом калмыков-дербетов этнической группы бага-чоносов (калм. 6ah чонс), второй — зайсангом калмыков-дербетов этнической группы абганер-кетчинеров (калм. авИнр-котчнр). Обе этнические группы являются частью «малых дербетов» (калм. бак дервд, то есть населением Малодер-бетовского улуса). Но сказитель сразу отмечает, что Джова-Дорджи был зайсангом малых дербетов, Эмген-Убуши — зайсангом больших дербетов.
Такое разделение двух этнических групп подчеркивает различие в этнической идентичности, в этническом происхождении двух героев предания. Почему так происходит в фольклорном тексте?
Две части фольклорного текста взаимосвязаны и в то же время самостоятельны, так как первая часть имеет достаточно завершенный характер — сюжет, несмотря на отсутствие связи между темой спора и темой отравления одного из участников, завершен: композиционно предание могло завершиться песней, в которой говорится о кончине одного из персонажей. Потому вторая часть, хотя и связана мотивом соперничества и спора с началом истории, относительно самостоятельна. Она соотносима с фольклорным прозвищным жанром, образцы которого содержат характеристики «своего» и «чужого».
Среди калмыков выделяются крупные этнические группы, одной из которых являются дербеты (калм. doped), исторически разделенные на две части, одну из которых возглавил старший брат, поэтому они стали называться «большие дербеты» (калм. ик doped), вторую — младший брат, и эта часть дербетов стала называться малыми (калм. бак doped). Разделение произошло в 1788 г, когда после смерти владельца единого Дер-бетского улуса — нойона Ценден-Дорджи — улус был разделен на части, и часть дербетов, недовольная этим решением, во главе со своим владельцем Екремом Хапчуковым откочевала на земли Войска Донского [История Калмыкии 2009, 630]. При Павле I в августе 1800 г. Большедербетовский улус даже наделялся самостоятельным статусом [Манжикова 2003, 28]. В октябре того же года правитель Малодербетовского улуса Чучей Тунду-тов был назначен наместником всего калмыцкого народа [Горяев, Коман-джаев 2012].
Несомненно, что отнесение персонажей истории к разным этническим группам, разделение которых было вызвано борьбой за власть владельцев улуса и сопровождалось территориальной изоляцией (откочевкой) новых групп, обусловлено акцентом на различие в происхождении двух образов. Вместе с тем, прообразы фольклорных героев являлись представителями хотя и разных этнических групп, но принадлежавших к одному сообществу малых дербетов. Таким образом, сказитель «повышает» уровень различий: от аймачного деления до улусного.
Н. С. Балеев, от которого записана «История о двух зайсангах...», проживал в местности, территория которой в прошлом относилась к аймаку, управлявшемуся зайсангами Кутузовыми. Большинство местного населения являлось представителями этнической группы абганер-кетченер. Будучи представителем одной родовой группы с зайсангом Кутузовым,
сказитель оказался в роли того тушимела, о котором он сказывал предание: воспевающего своего зайсанга Кутузова. Тем более что родившийся в самом начале XX в. (в 1907 г.) сказитель не мог не знать о личности и деятельности, судьбе зайсанга Дорджи-Джаба Кутузова и особенно его супруги, являвшейся известной народной учительницей.
Во второй части «Истории о двух зайсангах...» сюжет строится на мотиве соревнования представителей разных этнических групп. Дихотомия «свой» / «чужой» проявляется не в социальном отношении, как в первой части сюжета, а на уровне локальной этнической идентичности. Соревновательный спор двух тушимелов предстает образцом проявления мифологического сознания, которое предопределяет положительную оценку любого факта, относящегося к «своему», и негативную — факта, характеризующего «чужое». Потому речевые формулы, используемые сказителем для речи обоих сановников, получают различную коннотацию. Так, характеристика «будун хар», данная «своим» тушимелом, означает «плотный смуглый» и называется одной из примет счастливого человека. Это же словосочетание в характеристике «чужого» сановника имеет негативный оттенок и уже может быть передано словами «низкорослый темный». Еще более ярко различается характеристика «шар залу» (букв, «рыжеволосый мужчина») Характеристика «своего» строится на представлении о светловолосом человеке как красивом: «Сээхн шар, шар сахлта, мацхасн сээхн шар залу» («Красивый рыжеволосый, с рыжими усами, красивый величавый рыжий мужчина»). Этот же персонаж как «чужой» характеризуется как «белесый», «бесцветный»: «Ширгу нудтэ, ширвкр сахлта шу шар кун» («С бесцветными глазами, с пучкообразными усами, как белесый рыжий человек») рКова Дорж; боли Эмгн Овш]. Именно осмысление героями характеристик включает их в систему оценок, которые определены социальной позицией человека. Исследователи отмечают эту особенность осознавания мира, в котором предметы не обладают внутренними свойствами противоположности, а получают оценочные характеристики в процессе осмысления человеком [Матвеичева 201 б, 117].
Таким образом, спор тушимелов, продолжающий сюжетную линию противопоставления двух правителей аймаков, строится на уровне проявления локальной этнической идентификации, которое не имеет отношения ни к личностным характеристикам персонажей, ни к их социальной роли, а является частью сознания этнической группы. Поэтому характеристики, даваемые тушимелами зайсангу другого аймака, соответствуют мифологическим характеристикам «чужого». При этом, поскольку спорят два сановника, важна позиция сказителя.
Для сказителя, оставившего нам фольклорный текст «Истории о двух зайсангах — Джова-Дорджи и Эмген-Убуши», образ «чужого» — это образ бледного, белесого, с редкими волосами, пустого человека, отрицающего все, не имеющего за душой ничего стоящего; даже его физические свойства характеризуются как «пустое тело» (в тексте отмечаются худоба, истощенность, которые выражаются в физическом плане: отсутствие мышц на лопаточной кости, отсутствие жидкости в пузыре). Образ «своего» характеризуется как смуглый, коренастый человек с густыми волосами — в этой характеристике на первый план выходит свойство полноты бытия, проявляемое на материальном уровне. Человек с такими признаками представляется как счастливый.
Речевые формулы, отражающиеся в фольклорном тексте в споре тушимелов-сановников как более близких простому народу относятся к физической характеристике «своего» и «чужого». Они создают «сниженный» образ «чужого», в образе которого в фольклорном тексте выступает носитель близкой этнической идентичности — вот почему сказитель «определяет» зайсанга Эмгена-Убуши как представителя иной этнической группы, чем был его прообраз, возможно, действительно являвшийся героем предания. Такое «повышение» уровня субэтнических различий оправдывает «снижение» фольклорного образа, восходящего к известной личности. Оно определено традицией прозвищного фольклора, который был распространен в культуре тюрко-монгольских народов.
Как отмечали исследователи, «между родами всегда существует известный антагонизм и соревнование; проявление этого антогонизма лучше всего выражается в тех шуточных или бранных характеристиках, которые сочиняет один род про другой» (цит. по: [Басангова 2012, 101-102]). Родовые характеристики-присловья имеют варианты, они могут быть отнесены к разным жанрам фольклора. Характеристики рода в фольклорной форме могут быть представлены и в виде восхваления-магтала, и в виде «ухудшения» (калм. млурулИн), дразнилок; особенно часто образцы прозвищного фольклора используются во время свадебных соревнований [Басангова 2012]. Прозвищные формулы для субэтнических групп характерны для многих тюрко-монгольских народов. Так, среди алтайцев подобные материалы были опубликованы в сборнике материалов по этнической истории [Алтайцы 2005]. Прозвищный фольклор в культуре монголоязычных народов сохраняется в семейной обрядности. Элементы прозвищного фольклора сохраняются и в текстах других жанров, в частности, преданий, к которым можно отнести «Историю о двух зайсангах...».
Для традиционного общества, о котором идет речь в фольклорном тексте, рассматриваемом в нашей статье, характерны обращения к оппозициям «свое» / «чужое», «внутреннее» / «внешнее», «близкое» / «далекое», «на родине» (в нутуке) / «в дороге». Представления о «своем» / «чужом» проявляются на разных уровнях. Дихотомия «своего» и «чужого» в «Истории о двух зайсангах...» может быть рассмотрена в социальном контексте — как противопоставление бедных и богатых, защитника неимущих и скупого богача; проявляется она и на уровне субэтнического самосознания — ив соответствии с представлениями о «внутреннем» и «внешнем» персонажи этого предания наделены разной идентичностью на уровне субэтнического деления, хотя прообразы были не столь различимы. Но удаленность в этническом контексте сказителю потребовалась для соответствия удаленности пространственной, которая должна быть соотносима
с представлениями о чужеродности «чужого».
Заключение
«История о двух зайсангах — Джова-Дорджи и Эмген-Убуши» представляет собой особый образец калмыцкого фольклора, в котором отражены исторические реалии, этнографические детали, характеризующие отношения между разными этническими подразделениями этноса, а также элементы, восходящие к прозвищному фольклору Сходство имен героев, топонимов, отдельные события позволяют установить прообразы главных персонажей, которыми стали Дорджи-Джаб Кутузов (1850-1889) и Эмген-Убуши Дондуков (1840-1902), управлявшие аймаками Малодербетовского улуса Калмыцкой степи. Более того, можно предположить, что предание было сложено именно об этих двух аристократах. Этнографическая специфика текста состоит в умышленном увеличении сказителем различий между героями через отнесение их к разным улусам и соответственно этническим группам — хотя прообразы являлись представителями одного улуса. Этот прием позволяет усилить характеристику «чужого», который пространственно отдален от «своих». Сказитель, который должен был знать о реальных прообразах героев сюжета, «повышает» уровень их субэтнического различия. В фольклорном тексте этот мотив связан с репрезентацией локальных групп и кодами прозвищного фольклора, который отражает особенности субэтнической идентичности калмыков.
Дихотомия «свой» / «чужой» в двух частях фольклорного текста имеет разное освещение. В споре двух аристократов-зайсангов она выражается в социальном отношении: понимающий нужды бедного населения за-йсанг и обогащающийся за счет других второй. В «сниженном» уровне до перебранки двух сановников это противопоставление получает характеристики на уровне физических качеств двух зайсангов, в данном случае выступающих уже как символы двух аймаков и двух субэтнических групп. Потому «снижение» образов зайсангов, особенно одного из них, получающего самые нелестные физические характеристики, соответствует жанровой стилистике прозвищного фольклора, о которой Н. В. Дранникова пишет: «Присловья содержат этноцентричные представления и создают сниженный образ “соседей”. Они являются средством психологического воздействия на адресата и обладают сильной экспрессией» [Дранникова 2013,42].
Список литературы История о зайсангах Джова-Дорджи и Эмген-Убуши в калмыцком фольклоре: прообразы и этнографическая специфика мотива соперничества
- Алексеева П. Э. Народные просветители Кутузовы // О людях и времени: сб. ст. Элиста: КИГИ РАН, 2010. С. 61-64.
- Алексеева П. Э. Народные просветители Кутузовы // Теегин герл. 2003. № 6. С. 42-48.
- Алексеева П. Э. Обзор материалов о коневодстве и коннозаводстве у калмыков в конце XIX — начале XX вв. // Вестник Калмыцкого института социально-экономических и правовых исследований. 2001. № 3. С. 153-164.
- Алтайцы (Материалы по этнической истории) / сост., перевод, предисл., коммент. Н. В. Екеева. Горно-Алтайск: Институт алтаистики, 2005. 176 с.
- Басангова Т. Г. Прозвищный фольклор калмыков // Новые исследования Тувы. 2012. № 2. С. 101-109.
- Батыров В. В. Очерки истории традиционной культуры калмыков второй половины XIX в. Элиста: КИГИ РАН, 2016. 226 с.
- Большой академический монгольско-русский словарь. Т. 2. Отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. М.: Academia, 2001. 507 с.
- (а) Веселовский Н. Дорджеев Николай Нилович // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869-1894: в 2 т. Т. 1. СПб.: Тип. и литография Б. Г. Вольфа, 1896. С. 237-238.
- (b) Веселовский Н. Кутузов Дорджи Джаб // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869-1894: в 2 т. Т. 1. СПб.: Тип. и литография Б. Г. Вольфа, 1896. С. 361-362.
- Горяев М. С., Команджаев А. Н. Организация управления калмыцким народом после упразднения Калмыцкого ханства (1771-1825 гг.) // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия «История. Политология. Экономика. Информатика». 2012. № 7 (126). Вып. 22. С. 113-123.
- Дранникова Н. В. Роль фольклорно-речевых материалов в изучении локальной идентичности жителей Зимнего берега // Традиционная культура. 2013. № 2 (50). С. 40-46.
- История Калмыкии с древнейших времен до наших дней: в 3 т. Т. 1. Элиста: Герел, 2009. 848 с.
- Калмыцкие загадки и пословицы. Издал Вл. Котвич. СПб.: Тип. Имп. Академии наук, 1905. 112 с.
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б. Д. Муниева. М.: Русский язык, 1977. 768 с.
- Команджаев А. Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX — начале XX века: исторический опыт и современность. Элиста: Джангар, 1999. 262 с.
- Кутузов Дорджи Джаб // Биографика СПбГУ URL: https://bioslovhist.spbu. ru/person/148-kutuzov-dordzhi-dzhab.html (дата обращения: 01.04.2022).
- Манжикова Л. Д. Очерки истории Большедербетовского улуса. Элиста: Джангар, 2003. 144 с.
- Матвеичева Т. В. «Свое» и «чужое» как способ самоидентификации культуры // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 8 (50). Ч. 1. C. 117-119.
- Митиров А. Г. Ойраты — калмыки: века и поколения. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1998. 384 с.
- (а) Митиров А. Г. Зайсанг Бага-Чоносова рода Эмген-Убуши Дондуков // Митиров А. Г. Истоки. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2002. С. 80-83.
- (b) Митиров А. Г. Зайсанги Кутузовы // Митиров А. Г. Истоки. Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 2002. С. 89-93.
- Республика Калмыкия. Административно-территориальное деление. 1918-2017 гг. Справочник. Элиста: КалмНЦ РАН, 2019. 908 с.
- Целинный район // КалмыкияТур. URL: https://www.kalmykiatour.com/ celinnyj-rajon/ (дата обращения: 01.04.2022).
- Ramstedt G. J. Kalmflkische Lieder: bearbeitet und herausgegeben von S. Balinov und P. Aalto // Journal de la Societe Finno-Ougrienne. Вd. 63. 1962. S. 1-127.